Новолунье - [78]
Хороша пора сенокоса! Лиха беда, говорил дед, из шалаша выскользнуть. Действительно, стоит только войти босиком в траву с такой обильной росой, что кажется, в воду забрел, — а уж там руки сами к литовке тянутся. Обмакнешь брусок в ключевую воду в желтом туеске, кинешь литовку под мышку, чтобы острие было на уровне плеча, как делал дядя Павел, — и пошел бруском играть! Дзинь-дзинь, — разносится по кустарнику. Просыпаются дрозды и дятлы. Новый день начался!
Из Шушенского автобус катил в версте от берега, и мне была видна вздыбленная увалами Койбальская степь, которая уходила высоко к горизонту и на которую поздние летние сумерки уже набрасывали длинные разноцветные тени: это последними отблесками заката светились светло-коричневые, темно-зеленые, багрово-серые выветренные обнажения погребенных землею скал… Иногда внизу, под утесами, мелькал отсвечивающий темно-голубым Енисей. Вот только бело-розовые от вечных снегов тасхылы хребта Борус еще долго-долго будут маячить вдали, над лиловым разливом горной тайги.
Здравствуй, родимый берег! Берег детства! Берег юности!
Накапливающиеся в логах и низинах сумерки оставляли открытыми увалы и вершины холмов. Автобус выскочил на гребень увала — и глазам открылась озаренная застоявшимся закатом даль. Ощущение бескрайности этих сумеречных пространств на какой-то миг перехватило дыхание, и чувство кровной сопричастности с этими бесконечными и вечными пространствами переполнило душу.
Ухватившись обеими руками за опущенное стекло, я подставлял лицо бьющему встречному потоку воздуха, поминутно меняющемуся — то теплому, почти горячему, то холодному, как родниковая вода, — и хотел только одного: чтобы никогда не кончились эти короткие, как обычно в степи, сумерки и эта длинная, как обычно в степи, дорога.
Может быть, мне и надо было на время уехать и посмотреть на себя самого со стороны? Да, на самого себя! Ведь того Миньку, который прожил здесь семнадцать лет, с собой не увезешь. Не оторвешь его от этих степных увалов и растворяющихся в сумерках сине-фиолетовых предгорий Саян, от невидимых сейчас островов на енисейских перекатах, от утонувших в потемках берегов, которые, может быть, совсем скоро... станут речным дном. Что б ни случилось, я, прежний Минька, останусь с ними навсегда...
Автобус остановился. Я вышел где-то на полпути между Шушенским и Каптыревой, огляделся и не смог узнать, что это за местность. Кругом светились огни больших, двух- и трехэтажных домов, взад-вперед ехали машины, слышались далекие и близкие голоса людей, словно я остановился на площади незнакомого города, а не в потемках пустынного, заросшего тополями и черемухой берега, каким я его оставил много лет назад. Кое-как сориентировавшись, побрел к дому матери. Она, конечно, ждет. Но, как всегда, будет застигнута врасплох.
Избушек, кажется, стало больше. Но селились люди по-прежнему — вдоль берега Енисея. Вот и тропинка та же, по которой через лес ходил к переправе. Вот он, плетень, осевший в том месте, где перелезали через него, чтобы не обходить огород. Как будто прошло несколько недель. А на самом деле? Много-много лет.
Когда шел через огород, почувствовал холодок с Енисея. Увидел огоньки на той стороне — там Чибурдаиха. Давно не был, и вот тянет туда, все тот берег кажется роднее… А здесь? Что мать держит здесь? Дом, переправленный из Чибурдаихи. Частичка того, родного берега. Частичка той, родной, деревни. По огороду шел в каком-то тяжелом предчувствии. Матово-желтым пятном светило окно. Сарай и сени выходили по-прежнему прямо в огород.
Минуя сени, я подошел к окну. У стены лежала куча хвороста. Взобрался на нее, заглянул в окно. Мать у печи, нагнувшись к табуретке, отщипывала от полена лучинки. Мне стало жалко ее, старую, одинокую, в огромном доме на степном берегу огромной реки. Здесь и родни-то почти нет — все на том берегу, под старым курганом.
Минут через двадцать, сняв ботинки, я развалился на неразобранной кровати у окна. Руки заложил за голову и всем своим поведением старался выразить беспечность. Делал вид, что в доме ничего не случилось и что эта печальная тишина пустых комнат меня совсем не трогает. С преувеличенным интересом расспрашивал о деревенских новостях. А новости тоже были невеселые.
— Цыбак помер, — говорила мать. — Два года назад.
— Да ну?
— А я разве не писала? Писала, писала…
— Что-то не помню.
Чтобы переменить разговор, остановился у печки, спросил неестественно бодро:
— Ты вот лучше скажи, когда ужин будет?
— Ох, не скоро, сын, — ответила мать, не поднимая головы, — дрова сырые, все шают, шают, а не горят… Пока раздуешь — всех богов помянешь… и чертей в придачу…
— Откуда у тебя сырые дрова? В конце лета…
Мать поднялась. Стала одеваться.
— Откуда, говоришь? Из леса. Тальник рублю, таскаю, вот и топлюсь целый год. Петро болел, в лес ехать было некому, березняк заготавливать.
— А на Енисее? Я тебе за неделю на целый год наловлю…
— А чем? Багром с берега? Лодчонка рассохлась. Плавать нельзя. Да и что с нее толку. Тут, у всех, моторные лодки. Увидят бревно за версту, включают мотор — и за ним. А на веслах далеко не сунешься… — Мать ушла в темноту. — Пойду щепок пособираю.
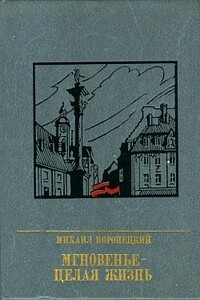
Феликс Кон… Сегодня читатель о нем знает мало. А когда-то имя этого человека было символом необычайной стойкости, большевистской выдержки и беспредельной верности революционному долгу. Оно служило примером для тысяч и тысяч революционных борцов.Через долгие годы нерчинской каторги и ссылки, черев баррикады 1905 года Феликс Кон прошел сложный путь от увлечения идеями народовольцев до марксизма, приведший его в ряды большевистской партии. Повесть написана Михаилом Воронецким, автором более двадцати книг стихов и прозы, выходивших в различных издательствах страны.

Первая книга (она же полнометражный пилот). Сериал для чтения. Основное действие происходит в начале 90-х. Краткое содержание сводится к: "Один-единственный раз за все школьные годы у меня случился настоящий роман — и то с нашим завучем." И герои (по крайней мере один из них), и автор до сих пор пребывают от краткого содержания в ужасе, но поделать ничего не могут.

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце — одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

Линн Рид Бэнкс родилась в Лондоне, но в начале второй мировой войны была эвакуирована в прерии Канады. Там, в возрасте восемнадцати лет, она написала рассказ «Доверие», в котором она рассказывает о своей первой любви. Вернувшись в Англию, она поступила в Королевскую академию драматического искусства и недолгое время играла на сцене. Потом она стала одной из первых женщин-репортеров отдела последних известий независимого телевидения.Ее первый роман «Комната формы L» сразу стал бестселлером, который впоследствии стал и очень удачным фильмом.

«Отныне Гернси увековечен в монументальном портрете, который, безусловно, станет классическим памятником острова». Слова эти принадлежат известному английскому прозаику Джону Фаулсу и взяты из его предисловия к книге Д. Эдвардса «Эбинизер Лe Паж», первому и единственному роману, написанному гернсийцем об острове Гернси. Среди всех островов, расположенных в проливе Ла-Манш, Гернси — второй по величине. Книга о Гернси была издана в 1981 году, спустя пять лет после смерти её автора Джералда Эдвардса, который родился и вырос на острове.Годы детства и юности послужили для Д.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в журнале "Иностранная литература" № 4, 1970Из подзаглавной сноскиЖозеф Кессель — известный французский писатель, академик. Будучи участником Сопротивления, написал в 1943 г. книгу «Армия теней», откуда и взят данный рассказ.