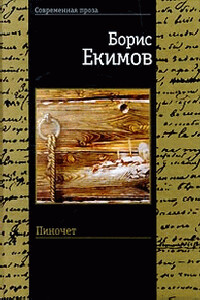Набег - [4]
— Бычки, — сказал бригадир. — Головские.
— Лягушата, — ответил Николай. — Половина в грязь ляжет.
Чапурин тяжко вздохнул. Нечего было ответить. Он отпихивал этот гурт, сколько мог. Навязали.
— Там, в Головке, и вовсе ни людей, ни кормов, ни попаса, — объяснил он. Там точно передохнут. У нас все же…
— У нас тоже недолго проживут, — сказал Николай. — Им два дни до смерти.
— Значит, не хочешь?
— Нет. Пока на больничном, а там видно будет.
Чапурин поднялся, к порогу шагнув, сказал:
— Ты все же подумай… Дома не усидишь. Надойди завтра в контору, поговорим. Условия хорошие. Договор дадим… Заработаешь хорошие деньги.
Бригадир нагнулся под притолку низковатого для его роста скуридинского дома и вышел.
Николай похмыкал, головой покрутил, на жену поглядел внимательно. Та поняла его по-своему и завела прежнее:
— Чисти, чисти картошку. Цельный месяц гулюшкой жил, вольничал, а я тута руки обрывала, последнего здоровья лишилась. — От жалости к себе Ленка заслезилась и подалась в спальню, долеживать.
Тридцать лет прожили. Пятерых детей подняли. Привык Николай слушать жену и не слышать ее, делая и думая свое. Чистил он картошку, капусту крошил для щей, а на плите, в кастрюле, уже кипело.
Была у Николая мысль, которая появилась в больнице, а теперь все более пленяла. Очень простая мысль: не работать в колхозе. Послать всех… И сидеть на своем базу. От своего огорода, скотины, конечно, никуда не денешься. Иначе ноги протянешь. А на колхозную работу не ходить. Он — человек больной. Это все знают. Отработал свое честно, тридцать с лишним годков при скотине. Хоть на базар стаж неси. Работал, детей поднимал. Теперь вдвоем остались. И много ли им надо? Прокормят огород, козий пух. Еще бы корову, чтоб молочную кашу варить. И больше ничего не надо. На себя трудиться. А колхозное — с плеч долой. Спокойно пожить. Порыбалить на пруду, на речке. Николай любил с удочкой посидеть. Но редко удавалось.
И еще один был резон, очень весомый. Николаю пить надоело. Водочку эту, пропади она… Смолоду — весело. А нынче стало уже тяжело. В больнице полежал, трезвый, и как-то особенно ясно понял: хватит пить. Как вспомнишь на трезвую голову, даже за сердце берет: то ли стыдно, то ли жалко себя.
Жизнь уже на краю, на излете. А чего в ней видал, в этой жизни? Скотина, ферма, навоз… Стылый ветер — зимою, летом — пекло. От темна до темна. Круглый год одна песня, из года в год. В отпуске ни разу не был. То подмены нет, то копейку лишнюю стараешься сбить. Пятеро детей — не шутка. Одежда, обувка… И чем старше, тем больше надо. А женить ли, замуж выдавать вовсе пожар. Последнее улетает. Но теперь, слава богу, все позади. А себе ничего не надо. Лишь покоя просит душа.
Такие вот мысли бродили в голове Николая Скуридина. Пришли они в больнице. А теперь все более забирали.
Три дня потихонечку прожил, из двора не выходя. И был рад этому. Не торопясь на базу управлялся. За месяц скопилось дел. Но никто не гнал. Можно было и посидеть на мартовской весенней воле, где за день — сто перемен. То припечет солнце по-летнему, то вдруг — ветер, туча, метель, сумятица снежных хлопьев, соседские дома тонут в сумерках. В дом уйдешь, там — тепло. А на воле тем временем снова — солнце. И тугой, ровный ветер несет и несет с полей дух парящей земли и первой зелени, особенно сладкий после больничной неволи.
Так прошел день, другой, третий. Чапурин, хуторской бригадир, объявился и пропал. Жене Николаевы планы пришлись по нраву: при муже-домоседе она могла спокойно болеть и болеть, не отвлекаясь к делам домашним.
В конце недели, в полуденную пору, подъехал к скуридинскому дому новый гость — главный зоотехник колхоза, молодой еще мужик, белобрысый, улыбчивый. Он в хату зашел, поздоровался, спросил у Николая:
— Ружье где?
— Какое ружье? — не понял Николай.
— С каким ты жену сторожишь. В конторе так и сказали: Николай Ленку с ружьем от миланов охраняет.
Николай усмехнулся. А в спаленке-боковушке заскрипела кровать, и неожиданно резво выбралась к мужикам сама Ленка, успев на голову цветастый платок накинуть.
— Бесстыжие… Наплетут… Языки бы у них поотсохли… — принялась корить она хуторских брехунов.
Но эта небыль пришлась ей по душе, взбодряя вялую стареющую кровь.
— А чего… — не унимался зоотехник, прощупывая ее взглядом и ободряя. Ничего еще.
Круглое лицо Ленки оживело. Взбодрил ее голос и вид молодого мужика, усатого, белозубого, с охальным взглядом. Она таких любила. И прежде приход этого белобрысого кончился бы лишь одним. Теперь пора ее миновала.
— У нас наплетут… Лишь слухай… — опуская глаза, оправдывалась Ленка.
— Наплетут. Вы сами такое сплетете — не вырвешься, — посмеивался зоотехник. А потом Николая спросил: — Чего домоседуешь? Хвораешь?
— Да так себе… — пожал плечами Николай. — Хвалиться дюже нечем, а гориться не с руки — живой.
— Не хочешь гурт принимать?
— Дохлину?
— Это точно, — признал зоотехник. — Довели до ручки. Но можно поднять.
— Он уж отподымался, — встряла в разговор Ленка.
— Точно? — весело хохотнул зоотехник, намекая на стыдное. — Отподымался? При такой бабе? Не верю.
Ленка засмущалась, довольная.
— Кто об чем… Вы, мужики, вечно об своем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дед услышал по радио наивный стишок про войну и вспомнил себя мальчиком из поселка Лазурь, на окраине Сталинграда, близ Мамаева бугра… где он жил до войны и где провел все 200 дней и ночей страшной битвы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом дачном поселке у Волги завелся свой скворушка — мальчонка, живущий без матери, растопил сердца всех родных и соседей.

Заботливая дочь, живущая в городе, подарила деревенской матери мобильный телефон. Но как выбрать, о чем успеть рассказать быстро и коротко? Ведь в хуторской жизни, в стариковском бытье много всего, о чем хочется поговорить…
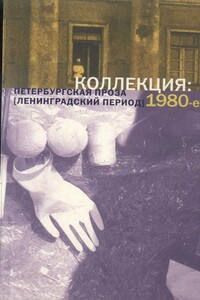
Последняя книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)». Произведения, составляющие сборник, были написаны и напечатаны в сам- и тамиздате еще до перестройки, упреждая поток разоблачительной публицистики конца 1980-х. Их герои воспринимают проблемы бытия не сквозь призму идеологических предписаний, а в достоверности личного эмоционального опыта. Автор концепции издания — Б. И. Иванов.

Одна из надежд современной англоязычной литературы, британец с индийскими корнями Нил Мукерджи прославился яркими, искренними романами «Жизнь других» и «Прошедшее незавершенное», затрагивающими главные болевые точки современности и получившими множество литературных премий. В своей новой работе писатель опять обращается к теме национальной идентичности и социального неравенства, прослеживая судьбы нескольких героев, оказавшихся на дне жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.