На весах Иова - [17]
Тут восторг не погашает и не исключает ужасов. Тут эти состояния органически связаны: чтоб был великий восторг, нужен великий ужас. И нужно сверхъестественное душевное напряжение, чтоб человек дерзнул противопоставить себя всему миру, всей природе и даже последней самоочевидности: «все» не считается со мной, но и я не считаюсь с «всем». Пусть «все» торжествует. Достоевскому доставляет даже особого рода наслаждение повествовать о своих непрерывных поражениях и неудачах. Никто ни до него, ни после не описывал с такой томительной, выматывающей душу обстоятельностью унижения и муки раздавленного «самоочевидностями» человека. Достоевский не успокаивается, пока ему не удается вырвать у самого себя признания: "да разве сознающий человек может уважать себя". И точно, кто может уважать бессилие и ничтожество? А все «Записки» только и свидетельствуют о бессилии и унижениях. Подпольного человека бранят, выталкивают, бьют, что угодно с ним делают. А он словно ищет случая еще, еще и еще «претерпеть». Точно чем больше его оскорбляют и унижают, уничижают — тем ближе он к своей заветной цели. А цель одна, как мы знаем: вырваться из пещеры, из того завороженного царства, где над человеком господствуют законы, принципы, самоочевидности, — из «идеального» царства «здоровых» и «нормальных» людей. Подпольный человек — самое несчастное, жалкое, обиженное существо. Но «нормальный» человек, т. е. человек, живущий в том же подполье, только не подозревающий, что подполье есть подполье, и убежденный, что его жизнь есть настоящая, высшая жизнь, его знание — наиболее совершенное знание, его добро — абсолютное добро, что он альфа и омега, начало и конец всего: такой человек даже в подпольном герое вызывает гомерический хохот. Прочтите, как описывает Достоевский «нормальных» людей, и спросите, что лучше, мучительные ли судороги «сомнительного» пробуждения или тупая, серая, зевающая, удушающая прочность «несомненного» сна. Тогда, быть может, вам не покажется таким парадоксальным противопоставление одного человека «всей» природе. При всей видимой бессмыслице, это все-таки не так «бессмысленно», как апофеоз «всемства», той золотой середины, при которой только и могли вырасти наше «знание» и наше "добро".
Аристотеля (когда Достоевский называет Клода Бернара, он de facto имеет в виду Аристотеля) его биограф называет "преувеличенно умеренным". И точно, Аристотель был гением и несравненным певцом «всемства», т. е. середины и посредственности. Он впервые твердо установил принцип: "законченность есть признак совершенства", он и создал идеальную, навеки образцовую систему знания и «эфики». Не случайно, конечно, средние века, когда "пределы возможного опыта" расширялись до фактической беспредельности, так прочно держались аристотелевской философии. Аристотель был необходим богословам, как римская государственная организация — папам. Католичество было и должно было быть complexio oppositorum:[14] без «умеряющего» Аристотеля и римских юристов оно никогда бы не добилось победы на земле…
Может быть, теперь именно уместно указать и на то обстоятельство, что в русской литературе Достоевский не стоит одиноко. Впереди его и даже над ним должен быть поставлен Гоголь. Все произведения Гоголя — и «Ревизор», и «Женитьба», и "Мертвые души", и даже его ранние рассказы, так весело и красочно рисующие малороссийский "быт", — одни непрерывающиеся записки из подполья. Пушкин, читая Гоголя, воскликнул: "Боже, какая грустная Россия!" Но Гоголь не о России говорил — ему весь мир представлялся завороженным царством. Достоевский понимал это: "изображения Гоголя, — писал он, — давят ум непосильными вопросами". "Скучно жить на этом свете, господа!" — этот страшный вопль, который как бы против воли вырвался из души Гоголя, не к России относился. Не потому «скучно», что на свете больше чем хотелось бы Чичиковых, Ноздревых, Собакевичей. Для Гоголя Чичиковы и Ноздревы были не «они», не другие, которых нужно было бы «поднять» до себя. Он сам сказал нам — и это не лицемерное смирение, а ужасающая правда, — что не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях «Ревизора» и "Мертвых душ". Книги Гоголя до тех пор останутся для людей запечатанными семью печатями, пока они не согласятся принять это гоголевское признание. Не худшие из нас, а лучшие — живые автоматы, заведенные таинственной рукой и не дерзающие нигде и ни в чем проявить свой собственный почин, свою личную волю. Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть. Но и их хватает только на то, чтоб подобно гоголевским мертвецам изредка, в глухие ночные часы, вырываться из своих могил и тревожить оцепеневших соседей страшными, душу раздирающими криками: душно нам, душно! Сам Гоголь чувствовал себя огромным, бесформенным Вием, у которого веки до земли и который не в силах их хоть чуть-чуть приподнять, чтоб увидеть краешек неба, открытый даже жалким обитателям мертвого дома. Его сверкающие остроумием и несравненным юмором произведения — самая потрясающая из мировых трагедий, как и его личная жизненная судьба. И его посетил грозный ангел и наделил проклятым даром второго видения. Или этот дар не проклятие, а благословение? Если бы хоть на этот вопрос можно было ответить! Но весь смысл второго видения в том, чтоб задавать вопросы, на которые нет ответов, и именно потому, что они так настоятельно требуют ответов. Бесчисленный сонм чертей и иных могучих духов не мог приподнять веки Вию. Не может открыть глаза и Гоголь, хотя весь он сосредоточен на одном помысле, на одном желании. Он может только терзать себя и безумствовать — отдать себя в руки духовному палачу отцу Матвею, уничтожать свои лучшие рукописи, писать дикие письма друзьям своим. И, по-видимому, в каком-то смысле эти беспощадные самоистязания, этот неслыханный духовный аскетизм «нужнее», чем его дивные литературные произведения. Может быть, нет иного способа, чтоб вырваться из власти «всемства»! Гоголь не употребляет этого слова. Гоголь даже ничего не слышал о Клоде Бернаре и никогда, конечно, не подозревал, что Аристотель заворожил мир законом противоречия и другими самоочевидностями. Гоголь не получил никакого образования и был indoctus в такой же степени, как и те галилейские плотники и рыбаки, о которых говорит бл. Августин. И все-таки — а может быть, именно потому еще мучительней, чем Достоевский, — он чувствовал над собой и всем миром страшную власть чистого разума, тех идей, которые создал «нормальный», непосредственный человек и которые выявила и прославила теоретическая философия, принявшая наследие Аристотеля.
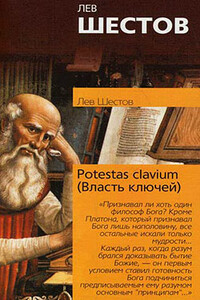
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
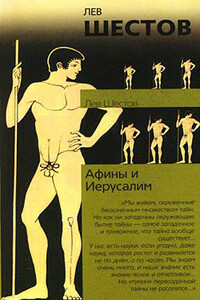
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ж.-П. Вернан - известный антиковед, в своей работе пытается доступно изложить происхождение греческой мысли и показать ее особенности. Основная мысль Вернана заключается в следующем. Существует тесная связь между нововведениями, внесенными первыми ионийскими философами VI в. до н. э. в само мышление, а именно: реалистический характер идеи космического порядка, основанный на законе уравновешенного соотношения между конститутивными элементами мира, и геометрическая интерпретация реальности,— с одной стороны, и изменениями в общественной жизни, политических отношениях и духовных структурах, которые повлекла за собой организация полиса,— с другой.
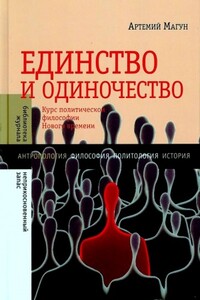
Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
