На весах Иова - [18]
Мне уже приходилось однажды указывать, что самое верное, т. е. единственно исчерпывающее определение философии мы находим у Плотина. На вопрос, что такое философия, он отвечает: τò τιμιώτατον, т. е. самое важное. Помимо того, что этим определением, как будто даже без заранее обдуманного намерения, разрушаются существовавшие уже в древности перегородки, коими философия отграничивалась от соседних с ней областей религиозного творчества и искусства — ибо ведь и художник и пророк ищут τò τιμιώτατον, - помимо того, в определении Плотина философия не только не ставится под контроль и начало науки, но прямо ей противоставляется. Науке нет дела до важного и не важного. Наука объективна, бесстрастна. Ей все — равно. Она спокойно зрит на правых и виновных, не ведает ни жалости, ни гнева. Но так как там, где нет гнева и жалости, где равнодушно относятся к правым и виновным, где все «явления» только классифицируются, но не квалифицируются, не может быть важного и не важного, то, стало быть, философия, определяемая как τò τιμιώτατον, уже ни в коем случае не может быть наукой. Даже больше того, она необходимо должна столкнуться с наукой, и как раз в основном вопросе о своем суверенитете. Наука претендует на достоверность, т. е. на всеобщность и необходимость своих утверждений. В этом ее сила, историческое значение и великий, величайший соблазн. Повторю еще раз: глубоко заблуждаются те ученые — а таких множество, — которые воображают, что они только "собирают и описывают факты". Факты сами по себе для науки совершенно не нужны, даже для таких наук, как ботаника, зоология, история, география. Науке нужна теория, т. е. то, что чудесным образом превращает однажды происшедшее, для обычного глаза "случайное", — в необходимое. Отнять у науки это суверенное право — значит свести ее с пьедестала, обессилить ее. Самое простое опи сание самого простого факта уже предполагает верховную прерогативу — прерогативу последнего суда. Наука не констатирует, а судит. Она не изображает действительность, а творит истину по собственным, автономным, ею же созданным законам. Наука, иначе говоря, есть жизнь пред судом разума. Разум решает, чему быть и чему не быть. Решает он по собственным — этого нельзя забывать ни на минуту — законам, совершенно не считаясь с тем, что он именует "человеческим, слишком человеческим". Материя и энергия неуничтожимы, а Сократ и Джиордано Бруно уничтожимы, постановляет разум: и все беспрекословно повинуются, никто не дерзает и вопроса поставить, почему разум издал такой закон, почему он так отечески заботливо охранил материю и энергию и забыл о Сократе и Бруно! И еще меньше дерзают поставить другой вопрос. Положим, что разум и постановил этот возмутительный закон, пренебрегши всем, что свято для людей, всем τò τιμιώτατον, но откуда он взял силы провести свое решение? Да еще так, что за все бесконечное существование мира ни разу не случилось, чтоб хоть один атом пропал бесследно и хоть один не то уж пудо-фут, но золотнико-дюйм энергии растаял в пространстве? Ведь это самое настоящее, неслыханное чудо! Тем более, что, собственно говоря, никакого разума и нет. Попробуйте найти его, указать: ничего не выйдет. Чудеса он творит как наиреальнейшее существо, а существования не имеет. И мы все, приученные к самому крайнему недоверию, такое чудо спокойно допускаем — ибо наука, создаваемая разумом, умеет хорошо заплатить нам: из ничего не стоящих «фактов» создает «опыт», благодаря которому мы становимся "властелинами над природой". Разум привел человека на высокую гору и, указывая на весь мир, сказал: все отдам тебе, если, падши, поклонишься. Человек поклонился и получил, хотя, правда, далеко не сполна, обещанное. С тех пор величайшей обязанностью человека считается обязанность поклоняться разуму. Нам даже представляется немыслимым, т. е. в каком-то смысле невозможным, иное отношение к разуму. Относительно Бога есть заповедь: возлюби Господа Бога всем сердцем и душой. Разум обходится без заповеди: и так возлюбят, без всякого приказания. Теория познания только воспевает разум, допрашивать же его никто не решается, и еще меньше решаются оспаривать его суверенные права. Чудо превращения фактов в «опыт» всех покорило и соблазнило, все признали, что разум судит, но сам суду не подлежит.
Достоевский своими вторыми глазами скоро увидел, что «опыт», с которого люди начинают свою науку, есть не действительность, а теория. И что теория не может оправдываться никакими успехами, завоеваниями, даже чудесами. И он поставил вопрос, вправе ли «всемство» (от него же и пошли самоочевидности) пользоваться теми высокими прерогативами, которые оно искони себе присвоило, иначе говоря, вправе ли разум автономно судить, не давая в том никому отчета, или мы имеем тут дело с освященным веками захватом. Таким образом, спор «всемства» с отдельным, живым человеком представлялся ему не как спор об истине, а как спор о праве. Всемство захватило власть — нужно отбить ее, и, чтоб отбить, прежде всего нужно перестать верить в закономерность захвата и сказать себе, что противник держится не собственными силами, а нашей верой в его силы. "Законы природы" с их непреоборимостью, истины с их самоочевидностью, — может быть, только «наваждение», такое же самовнушение или внушение извне, какое бывает у петуха, если обвести вокруг него меловую черту. Петух не выйдет за черту, как если бы это была не черта, а каменная стена. И если бы петух умел «мыслить» и выражать свои мысли в словах, он бы создал теорию познания, говорил о самоочевидностях и в меловой черте видел предел возможного опыта. А раз так, стало быть, с предпосылками научного знания нужно бороться уже не доказательствами, а совсем иными приемами. Доказательства годились лишь до того, пока в душе была еще вера в предпосылки, которыми они только и держались. Но раз веры нет, нужно другое. "Дважды два четыре есть уже не жизнь, го спода, а начало смерти: по крайней мере, человек всегда боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, что человек только то и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, — ей-Богу, как-то боится… Но дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два пять тоже премилая вещица". Вы не привыкли к таким возражениям против философских теорий, вы, пожалуй, оскорблены тем, что, говоря о теории познания, я позволяю себе цитировать такие места из Достоевского. Вы были бы правы, и возражения точно были бы неуместны, если бы не поднят был вопрос о захвате, если бы тут шел вопрос о праве. Но в том-то и дело, что "дважды два четыре" или разум со всеми его самоочевидностями не хотят допустить спора о праве. Да и не могут, ибо допустить такой спор для них значило бы погубить наверняка свое дело. Они не хотят судиться, они хотят быть и судьями и законодателями и всякого, кто этого права за ними не признает, предают анафеме, отлучают от всечеловеческой, вселенской церкви. Тут кончается всякая возможность спора, тут начинается тяжелая, отчаянная борьба, борьба на жизнь и на смерть. Подпольный человек от имени разума объявлен лишенным покровительства законов. Законы, как мы знаем, покровительствуют только материи, энергии и принципам. Сократ, Джиордано Бруно и какой хотите вы, великий и малый, человек — все оказываются ничем и никем не охраняемыми. И вот, ничтожный, забитый, жалкий человек дерзает встать на защиту своих «мнимых» прав. И посмотрите, насколько глубже и проникновеннее взгляд этого отверженного чиновнишки, чем рассуждения многих заправских ученых. Обычно философ борется с материализмом и очень гордится, если ему удастся собрать несколько более или менее удачных соображений для опровержения своих противников. Достоевский же, дальше Клода Бернара не пошедший, даже не удостаивает материалистов спора. Он знает, что материализм сам по себе бессилен, что держится он только идеализмом, идеями, т. е. все тем же разумом, не признающим над собой никакого начала. Но как свергнуть его, этого самоуверенного тирана, какие методы для борьбы придумать? Не забывайте, что спорить с ним невозможно. Все доказательства — разумные доказательства, т. е. затем только и созданные, чтоб поддерживать исходящие от разума директивы. Остается одно: насмехаться, браниться и на все, что требует разум, отвечать решительным отказом. Разум создает нормы и благословляет нормальных людей, Достоевский ему отвечает: "почему вы так твердо, так торжественно убеждены, что только одно нормальное и положительное — одним словом, только одно благоденствие нужно? Не ошибается ли разум в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно только благоденствие? Ведь, быть может, он ровно настолько же любит страдание?.. А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти — и это факт. Тут уже и со всемирной историей нечего справляться, спросите себя самого, если вы только жили. Что же касается моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь даже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою и не за благоденствие. Стою я…
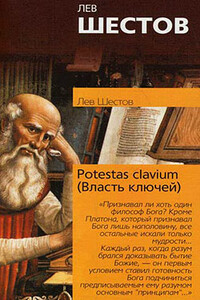
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
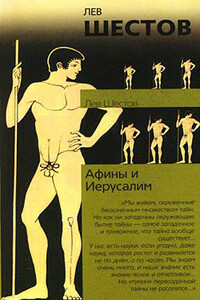
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
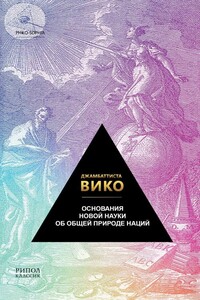
Вниманию читателя предлагается один из самых знаменитых и вместе с тем экзотических текстов европейского барокко – «Основания новой науки об общей природе наций» неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1774). Создание «Новой науки» была поистине титанической попыткой Вико ответить на волновавший его современников вопрос о том, какие силы и законы – природные или сверхъестественные – приняли участие в возникновении на Земле человека и общества и продолжают определять судьбу человечества на протяжении разных исторических эпох.

Интеллектуальная автобиография одного из крупнейших культурных антропологов XX века, основателя так называемой символической, или «интерпретативной», антропологии. В основу книги лег многолетний опыт жизни и работы автора в двух городах – Паре (Индонезия) и Сефру (Марокко). За годы наблюдений изменились и эти страны, и мир в целом, и сам антрополог, и весь международный интеллектуальный контекст. Можно ли в таком случае найти исходную точку наблюдения, откуда видны эти многоуровневые изменения? Таким наблюдательным центром в книге становится фигура исследователя.
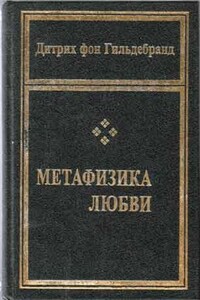
«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».
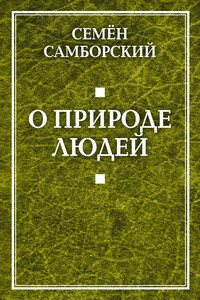
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.
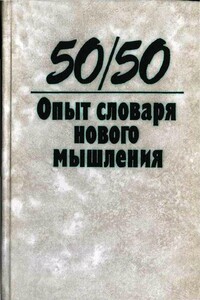
Когда сборник «50/50...» планировался, его целью ставилось сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных культур и историко-политических традиций. Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными. Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы.

Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.