На весах Иова - [16]
Достоевский, хотя и не имел профессиональной подготовки, с необычной чуткостью понял, как должен быть поставлен основной вопрос философии: возможна ли метафизика как наука?
Но, во 1-х, почему метафизика должна быть наукой? Во 2-х, какой смысл в наших устах имеет слово «возможный»? Наука предполагает как свое необходимое условие то, что Достоевский называл «всемством», т. е. всеми признанные суждения. Есть такие всеми признанные суждения, и эти суждения имеют огромные, сверхъестественные преимущества пред суждениями, не принятыми всеми: только они называются истинными. Достоевский превосходно понимал, почему наука и здравый смысл так гоняются за всеобщими и необходимыми суждениями. «Факты» сами по себе не «обогащают» нас, не приносят никаких выгод. Что с того, если мы подметили, что камень согрелся на солнце, кусок дерева держался на воде, несколько глотков воды утолили жажду и т. п. Науке отдельные факты не нужны, она даже не интересуется ими. Ей нужно то, что факты чудесным образом превращает в «опыт». Когда я получаю право сказать: солнце всегда согревает камень, дерево никогда не тонет в воде, вода всегда утоляет жажду и т. п., только тогда добывается научное знание. Иначе говоря: знание становится знанием лишь постольку, поскольку мы в факте открываем «чистый» принцип, то невидимое глазу «всегда», тот всемогущий призрак, который унаследовал власть и права изгнанных из мира богов и демонов. То же, что и в физическом мире, наблюдаем мы и в мире нравственном. И там место богов заняли принципы: уничтожьте принципы — и все смешается, не будет ни добра, ни зла, подобно тому как и в мире внешнем, если исчезнут законы, все что угодно будет возникать из всего чего угодно. Само представление об истине и лжи, о добре и зле предполагает вечный, неизменный порядок. Это и стремится выявить наука, создавая теорию. Если мы знаем, что солнце не может не согреть камень, дерево не может тонуть в воде, что вода необходимо утоляет жажду, т. е. если мы можем наблюденный факт превратить в теорию, поставив его под охрану невидимого, но вечного, никогда не возникшего и потому никогда не могущего исчезнуть закона, — у нас есть наука.
То же нужно сказать и о морали. И она держится только законом: все должны поступать так, чтоб в поступках их проявлялась безусловная готовность подчиниться правилу. Только при таком условии возможно социальное существование человека. Все это Достоевский знал превосходно, хотя в истории философии был настолько несведущ, что ему казалось, будто идея "чистого разума" как единственного властителя и господина вселенной была изобретена в самое последнее время и творцом ее был Клод Бернар. И что, тоже в самое последнее время, кто-то — по-видимому, все тот же Клод Бернар — выдумал новую науку, «эфику», которая окончательно решила, что и над людьми единственный хозяин все тот же закон, навсегда вытеснивший Бога. Достоевский умышленно влагает свои собственные философские размышления в уста невежественного Димитрия Карамазова. Образованные люди — даже Иван Карамазов — все на стороне Клода Бернара с его «эфикой» и "законами природы". Очевидно, что от его проницательности не укрылось то обстоятельство, что научная вышколенность ума в каком-то смысле парализует человеческие силы и обрекает нас на ограниченность. Конечно, он мог об этом прочесть и в Библии. Но кто не читал и не знает Библии? Наверное, и Клод Бернар, и те, у кого Клод Бернар учился, читали Библию. Но неужели в этой книге искать философскую истину? В книге невежественных, почти незатронутых культурою людей? Другого выхода Достоевский не находил. И ему пришлось, вслед за блаженным Августином, воскликнуть: Surgunt indocti et rapiunt cælum — Бог весть откуда приходят невежественные люди и восхищают небо.
Surgunt indocti et rapiunt cælum! Чтоб восхитить небо, нужно отказаться от учености, от основных идей, которые мы впитали в себя с молоком матери. Больше того, нужно отказаться, как мы могли уже убедиться из приведенных цитат, вообще от идей, т. е. усомниться в той чудотворной их силе, при посредстве которой они превращают факты в «теорию». Научное мышление наделило идеи высшей прерогативой: они решали и судили, что возможно и что невозможно, они определяли границу между действительностью и мечтой, между добром и злом, должным и не должным. Мы помним первый бешеный, безудержный наскок подпольного человека на застывшие в сознании своих суверенных, неотъемлемых прав самоочевидности. Слушайте дальше — но забудьте и думать, что вы имеете дело с оплеванным, ничтожным петербургским чиновником. Диалектика Достоевского, как в "Записках из подполья", так и в других его произведениях, может быть свободно поставлена наряду с диалектикой какого угодно из признанных европейских философов, а по смелости мысли — я этого не боюсь сказать — едва ли многие из избранников человечества сравнятся с ним. Что же до самопрезрения — еще раз повторю — он делит его со всеми святыми всего мира…
"Продолжаю о людях с крепкими нервами… Эти господа… пред невозможностью тотчас же смиряются. Невозможность — значит каменная стена! Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных, так уж принимай, нечего делать-то, потому дважды два — математика. Попробуйте возражать! — Помилуйте, закричат вам, возражать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивает: ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее за коны или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена и т. д., и т. д. Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что это каменная стена, а у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду заключает хоть какое-нибудь слово на мир единственно потому, что она дважды два четыре! О, нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все возможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих стен, если вам мерзит примириться: дойти, путем самых неизбежных логических комбинаций, до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и, вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, никогда и не найдется, что тут подмен и шулерство, что тут просто бурда, — неизвестно что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности, у вас все-таки болит, и чем больше неизвестно, тем больше болит"… Может быть, вы уже устали следить за Достоевским и за его отчаянными попытками преодолеть непреодолимые самоочевидности? Вы не знаете, серьезно ли он говорит или дразнит вас изощренной софистикой. Ну можно ли, в самом деле, не пасовать перед стеной? Противопоставлять природе, которая делает свое, не спрашивая вас, наше слабое, ничтожное я, да еще притом самоуверенно квалифицировать суждения, такую возможность отрицающие как "нелепость нелепостей"? Но ведь Достоевский и усомнился в том, вправе ли наш разум судить о возможном и невозможном. Такого вопроса "теория познания" не ставит. Ибо если разуму не дано судить о возможном и невозможном, то кому же тогда судить? Тогда, стало быть, все — возможно и все — невозможно. А тут Достоевский, словно насмехаясь над нами, и сам признает, что сил-то у него нет, чтоб пробить стену. Значит, признает какую-то невозможность, какие-то пределы. Зачем же он только что утверждал противоположное? Ведь таким образом мы придем уже к абсолютному хаосу, или даже не к хаосу, а к какому-то грандиозному ничто, в котором вместе с правилами, законами и идеями исчезнет и всякая действительность. Но, по-видимому, за известными гранями приходится и такое испытать. Человек, освобождающийся от кошмарной власти посторонних идей, подходит к чему-то столь необычному и столь новому, что ему должно казаться, что он вышел из области действительности и подошел к вечному, изначальному небытию. Достоевский был не первым из людей, которому пришлось испытать это невообразимо страшное чувство перехода в инобытийное существование, состояние человека, вынужденного отказаться от той опоры, которая нам дается «принципами». За полторы тысячи лет до него величайший философ Плотин, тоже подобно Достоевскому попытавшийся взлететь над нашим «опытом» — знанием, рассказывает, что первое впечатление от этого взлета такое, будто все исчезло, и безумный страх, что осталось только чистое ничто. Прибавлю, что Плотин не все рассказал и, пожалуй, главное утаил. По-видимому, не только первое, но и второе, и все последующие впечатления остаются такие же. Душа, выброшенная за нормальные пределы, никогда не может отделаться от безумного страха, что бы нам ни передавали об экстатических восторгах.
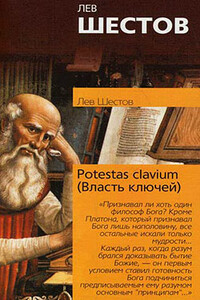
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
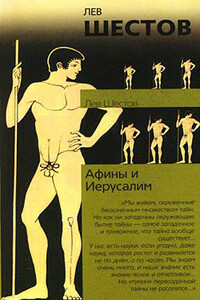
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
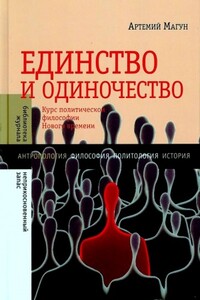
Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
