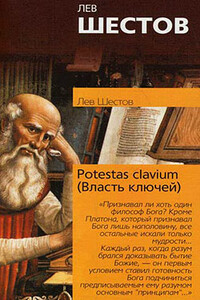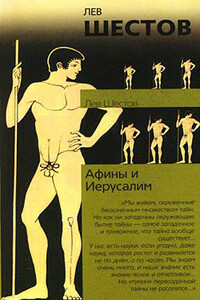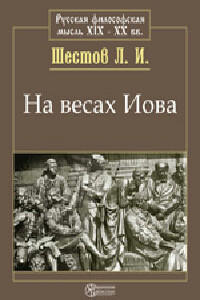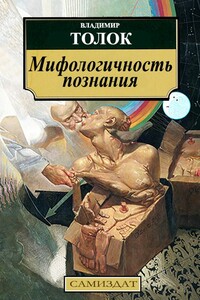I
Бердяев является несомненно первым из русских мыслителей, умевших заставить себя слушать не только у себя на родине, но и в Европе. Его сочинения переведены на многие языки и везде встречали к себе самое сочувственное, даже восторженное отношение. Не будет преувеличением, если мы поставим его имя наряду с именами наиболее сейчас известных и значительных философов — таких, как Ясперс, Макс Шеллер, Николай Гартман, Гейдеггер. И Вл. Соловьев переведен на многие языки (по-немецки вышло даже полное собрание его сочинений), но его гораздо меньше знают, чем Н. Бердяева, и он никогда не привлекал к себе интересов философствующих кругов. Можно сказать, что в лице Н. Бердяева русская философская мысль впервые предстала пред судом Европы [1] или, пожалуй, даже всего мира. Но в нашей эмигрантской литературе о нем почти не говорят. За пятнадцать лет своего пребывания за границей он выпустил целый ряд крупных философских работ: «Философия свободного духа», «О назначении человека», «Я и мир объектов», «Дух и реальность», «Новое средневековье» и напечатал в журнале «Путь», который он редактирует, много мелких и крупных статей но религиозным, философским и социальным вопросам, — но о нем в русских журналах и газетах почти никто никогда не писал. Почему? Трудно сказать, почему. Во всяком случае не потому, что его не ценят и им не интересуются или интересуются мало. И темы его и его подход к этим темам не могут не захватывать даже тех, кто стоит в стороне от философских и религиозных вопросов.
Последняя книга Н. Бердяева, «Дух и Реальность», есть до известной степени комментарий и итог всего того, о чем он писал раньше. Но, как всегда у него бывает, каждая новая книга привносит кой-что, чего в предыдущих книгах не было. Уже в предшествующей его книге, «Я и мир объектов», чувствовалось что-то новое: прежде он говорил только о «гнозисе» — теперь он говорит и об экзистенциальной философии. Экзистенциальная философия — термин, привнесенный Киргегардом. Но нужно сразу сказать, что Бердяев, хотя он и очень высоко ценит Киргегарда, его философией интересуется мало, что он почти не говорит о ней. И даже иной раз говорит в резко отрицательном смысле. В «Назначении человека» мы читаем: «у такого пламенного и значительного мыслителя, как Киргегард, есть элемент нехристианского максимализма, максимализма безблагодатного, противоположного любви». Уже из этих слов ясно, что, усвоив себе киргегардовский термин, Бердяев менее всего расположен принять то, что Киргегард связывал с экзистенциальной философией.[2] Да вряд ли и могло быть иначе. Бердяев ведет свою философскую родословную от знаменитого немецкого мистика, Якова Бёме, и чрез Бёме от немецкого идеализма. В этом смысле последняя его книга еще более выразительна, чем прежние. Сейчас в немецкой философии ясно обозначилось стремление вернуться к Канту: сочинения Ясперса, Гартмана, Гейдеггера об этом достаточно свидетельствуют. Сам Гуссерль, которому, казалось, судьба предназначила преодолеть кантовский субъективизм, положил начало этому движению. Последняя книга Бердяева, всегда проявлявшего склонность к кантовским идеям, не отстает в этом отношении от книг немецких философов. «Дух и Реальность» в известном смысле пытается по-новому или на иной манер повторить «коперниканский подвиг» кенигсбергского философа. Центром бытия должен быть не объект, а субъект. «Тайна реальности раскрывается не в сосредоточенности на объекте, предмете, а в рефлексии, обращенной на акт, совершаемый субъектом». Эта мысль, которая всегда была близка Бердяеву, в последних двух книгах проводится с особенной настойчивостью. Он надеется, что ему удастся таким образом освободить познание от выросшего из аристотелевского учения принципа adæquatio rei et intellectus [3] и стряхнуть с себя все принуждения и скованности, тяготеющие над человеческим духом. Мы увидим, что это ему так же мало удается, как и вдохновляющему его Канту: принуждения и связанности прилаживаются к субъекту не хуже, чем они прилаживались к объекту.
И это несмотря на то, что в своей последней книге Бердяев с еще большей настойчивостью, чем прежде, проводит дорогую ему идею богочеловечества, в которой он всегда видел наиболее полное выражение христианства. В «Духе и Реальности» чувствуется особенно сильно то «новое», о котором я говорил. До сих пор Бердяев называл христианство «геоцентрическим» или «христоцентрическим». Теперь он заговорил о пневмацентричности христианства. Это, конечно, не значит, что Бердяев отказался от идеи богочеловечества. Но, несомненно, это значит, что в двучленной формуле — «богочеловек» ударение переносится на второй член. Правда, и это для Бердяева не совсем ново: как всегда, даже в своих ранних книгах, все свое внимание он сосредоточивал на человеке. Его философская эволюция заключается лишь в том, что в формуле «богочеловек» второй член все больше и резче подчеркивается и выдвигается — конечно, при установленной им связи, выдвигается за счет первого члена. Так что, по мере того, как растет и обогащается независимым содержанием человек, умаляется и беднеет Бог. До такой степени беднеет, что формула сама начинает терять устойчивость и грозит опрокинуться: богочеловечество готово превратиться в человекобожество. Думаю, что буду очень близок к истине, если скажу, что в философии немецкого идеализма эта возможность стала действительностью (кантовская «религия в пределах разума»). Конечно, Бердяев далек от этого. Но его увлечение Кантом, равно как и уверенность, что путь к истине идет через гнозис, заставляет его иной раз почти с завистью глядеть на «свободное» немецкое мышление. «Даже в Евангелии, — пишет он, — чистота откровения духа замутнена человеческой ограниченностью… Феноменология откровения должна привести к сознанию той истины, что духу, т. е. свободе, принадлежит абсолютный примат над всяким объектированным бытием». Свобода — это тоже одна из основных идей Бердяева, которая во всех его произведениях развивается с огромной страстностью и с неподдельной искренностью. Являясь в этом горячим последователем Якова Бёме, он постоянно говорит о свободе, причем так же, как Яков Бёме и воспитавшиеся на Бёме творцы немецкой идеалистической философии, он считает свободу премирной, несотворенной. Собственно говоря, никакой феноменологии в сущности и делать тут нечего: за столетия до того, как Гуссерль ввел слово феноменология, Бёме уже достаточно говорил о свободе и о том, что свобода не сотворена Богом, а дана ему, как дана людям. Знаменитая статья Шеллинга о сущности человеческой свободы, целиком вышедшая из Бёме, исходит из мысли, что der reale lebendige Begriff (der Freiheit), dass sie ein Vermögen des Guten und des Bösen ist.