На руинах нового - [13]
Сеттембрини строг; все на Волшебной горе вызывает у него яростную критику и презрение; все здесь – симптом универсальной болезни современности. Ирония – болезнь: «Остерегайтесь процветающей здесь иронии, инженер! Остерегайтесь вообще этой интеллектуальной манеры! Если ирония не является откровенным классическим приемом ораторского искусства, хоть на мгновенье расходится с трезвой мыслью и напускает туману, она становится распущенностью, препятствием для цивилизации, нечистоплотным заигрыванием с силами застоя, животными инстинктами, пороком» (1, 263). Парадокс? «Ядовитый цветок квиетизма, обманчивое поблескивание загнивающего духа» (1, 264). Музыка Сеттембрини не нравится тоже – и по схожим причинам. Однако приносимый всем этим (и прочим) вред был бы не столь опасен, не окажись тело и дух европейца ослабленными Востоком. В нападках на этот самый «Восток» Сеттембрини воистину неутомим.
Так что перейдем к тем, кто является носителем, распространителем этой болезни, и к тому месту, откуда болезнь (органика, жизнь, смерть, трансформация, новое) исходит. Это славяне, жители Восточной Европы. Сеттембрини называет их по своей классицистической привычке «парфянами и скифами», однако имеются в виду люди, населяющие западные части Российской империи, восточные части империи Германской, и, конечно, презренные подданные Австро-Венгерской империи. С последними у итальянца особые счеты, учитывая историю освободительного национального движения на Апеннинском полуострове в XIX веке; так что для него неславяне австрияки даже хуже славян. И, естественно, почти за все грехи «парфян и скифов» отвечает мадам Шоша, внесшая губительный разлад в кристально чистую наивную душу юного инженера Касторпа. В какой-то момент может даже показаться, что Сеттембрини-учитель ревнует своего ученика к обворожительной русской со слегка раскосыми глазами и кошачьей походкой; но даже если и так, он придает этой ревности высокое идейное звучание. Наблюдая за мадам Шоша, Ганс мысленно повторяет за итальянцем его сентенции: «моральная распущенность» и «болезнь» – естественное состояние «этого племени», «нравы и манеры этих людей действительно могли вызвать у гуманиста чувство превосходства. Они ели с ножа и неописуемо пачкали в туалете». И хотя Касторпа и раздражает назидательная дидактичность Сеттембрини, ему «становится ясной и связь, существовавшая между болезнью мадам Шоша и ее „небрежностью“» (1, 271–272). Наконец, болезнь заразна: Ганс начинает подражать русской, сутулится за столом, хлопает дверью, заходя в столовую, – и все это кажется ему естественным (1, 273). Слово «естественное» здесь самое важное; выработанная столетиями тщательного и кропотливого труда Европы форма неестественна; естественна, как Природа, как болезнь, как жизнь, – бесформенность, хаос. Впрочем, это уловка: называемое «распущенностью» вовсе не является естественным; ведь, чтобы «распуститься», нужно быть «собранным», иметь форму. Это не конфликт Культуры с Природой, это раздвоение, шизофрения самой Культуры. Так что больны не только мадам Шоша, не только Ганс Касторп, но и моралист Сеттембрини, больны все и вся – «Берггоф», Волшебная гора, мир.
Оттого потоки презрения итальянца в адрес «парфян и скифов» неубедительны, злобны, пошлы, глупы. Касторп мельком упоминает «сибирские рудники» и получает в ответ желчную тираду совершенно расистского свойства: «Азия затопляет нас. Куда ни глянешь – всюду татарские лица. <…> Чингисхан, <…> снега и степи, волчьи глаза в ночи и водка, кнут, Шлиссельбург и христианство. Следовало бы здесь, в вестибюле, воздвигнуть алтарь Палладе Афине, пусть защитит нас. Видите, там впереди какой-то Иван Иванович без белья спорит с прокурором Паравантом. Каждый уверяет, что он стоит впереди в очереди за письмами. Не знаю, кто из них прав, но, мне кажется, богиня должна быть на стороне прокурора. Правда, он осел, но хоть знает латынь» (1, 286). Любопытно, что в этом пассаже заключены почти все общие места fin de siecle: расизм, пока еще только культурный, но уже подходящий к пределам биологического; филоэллинство a la Пьер де Кубертен, этическое, привнесенное в жертву идеологическому. Сеттембрини болен не меньше мадам Шоша или «Ивана Ивановича без белья», а гораздо глубже и безнадежнее. На самом деле никто так не чувствует безнадежность современного мира, как этот итальянский проповедник труда, который занят исключительно болтовней[25]. Несмотря на педагогическую дидактику, он понимает, что обречен; Волшебная гора уже «затоплена Азией»[26], и единственным спасением является бегство на «равнину». Сам Сеттембрини бежать уже не может, он болен, но пытается уговорить Ганса Касторпа: «Лишь на равнине можете вы быть европейцем, активно, согласно своим возможностям побеждать страданье, служить прогрессу, использовать время» (1, 293). Касторп не прислушивается к этой мольбе, он остается; европейцем же его делает трансформация, претерпеваемая им за семь лет на Волшебной горе, медленная, потерявшаяся в магическом времени этого места (времени, которое невозможно «использовать»), но тот европеец, которым Ганс становится, – не условный герой «гуманизма» Сеттембрини, а пушечное мясо Первой мировой. Не исполнив просьбу Сеттембрини, оставшись на горе, Ганс тем не менее перенимает его взгляд на Восток и на мадам Шоша. Ближе к концу книги Иоахим рассказывает, что столкнулся с Шоша в Мюнхене (на равнине!) и что та вела себя довольно вольно. Касторп отвечает: «Это Восток и болезнь. Тут с мерками гуманистической культуры подходить не стоит, ничего не получится» (2, 189). Дело даже не в том, что именно он сказал, тут важна двойная ирония – Ганса и Томаса Манна. Ну а истинное значение иронии нам Сеттембрини уже растолковал.

В своей новой книге Кирилл Кобрин анализирует сознание российского общества и российской власти через четверть века после распада СССР. Главным героем эссе, собранных под этой обложкой, является «история». Во-первых, собственно история России последних 25 лет. Во-вторых, история как чуть ли не главная тема общественной дискуссии в России, причина болезненной одержимости прошлым, прежде всего советским. В-третьих, в книге рассказываются многочисленные «истории» из жизни страны, случаи, привлекшие внимание общества.

Книга К.Р. Кобрина «Средние века: очерки о границах, идентичности и рефлексии», открывает малую серию по медиевистике (series minor). Книга посвящена нескольким связанным между собой темам: новым подходам к политической истории, формированию региональной идентичности в Средние века (и месту в этом процессе политической мифологии), а также истории медиевистики XX века в политико-культурном контексте современности. Автор анализирует политико-мифологические сюжеты из средневекового валлийского эпоса «Мабиногион», сочинений Гальфрида Монмутского.

Книга Кирилла Кобрина — о Европе, которой уже нет. О Европе — как типе сознания и судьбе. Автор, называющий себя «последним европейцем», бросает прощальный взгляд на родной ему мир людей, населявших советские города, британские библиотеки, голландские бары. Этот взгляд полон благодарности. Здесь представлена исключительно невымышленная проза, проза без вранья, нон-фикшн. Вошедшие в книгу тексты публиковались последние 10 лет в журналах «Октябрь», «Лотос», «Урал» и других.

Истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне — энциклопедия жизни времен королевы Виктории, эпохи героического капитализма и триумфа британского колониализма. Автор провел тщательный историко-культурный анализ нескольких случаев из практики Шерлока Холмса — и поделился результатами. Эта книга о том, как в мире вокруг Бейкер-стрит, 221-b относились к деньгам, труду, другим народам, политике; а еще о викторианском феминизме и дендизме. И о том, что мы, в каком-то смысле, до сих пор живем внутри «холмсианы».
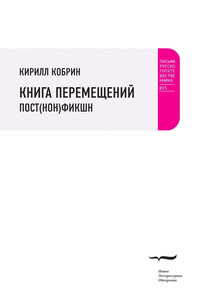
Перемещения из одной географической точки в другую. Перемещения из настоящего в прошлое (и назад). Перемещения между этим миром и тем. Кирилл Кобрин передвигается по улицам Праги, Нижнего Новгорода, Дублина, Лондона, Лиссабона, между шестым веком нашей эры и двадцать первым, следуя прихотливыми психогеографическими и мнемоническими маршрутами. Проза исключительно меланхолическая; однако в финале автор сообщает читателю нечто бодро-революционное.

Книга состоит из 100 рецензий, печатавшихся в 1999-2002 годах в постоянной рубрике «Книжная полка Кирилла Кобрина» журнала «Новый мир». Автор считает эти тексты лирическим дневником, своего рода новыми «записками у изголовья», героями которых стали не люди, а книги. Быть может, это даже «роман», но роман, организованный по формальному признаку («шкаф» равен десяти «полкам» по десять книг на каждой); роман, который можно читать с любого места.

Данная книга — итог многолетних исследований, предпринятых автором в области русской мифологии. Работа выполнена на стыке различных дисциплин: фольклористики, литературоведения, лингвистики, этнографии, искусствознания, истории, с привлечением мифологических аспектов народной ботаники, медицины, географии. Обнаруживая типологические параллели, автор широко привлекает мифологемы, сформировавшиеся в традициях других народов мира. Посредством комплексного анализа раскрываются истоки и полисемантизм образов, выявленных в быличках, бывальщинах, легендах, поверьях, в произведениях других жанров и разновидностей фольклора, не только вербального, но и изобразительного.

Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.

Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.

В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI в. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.
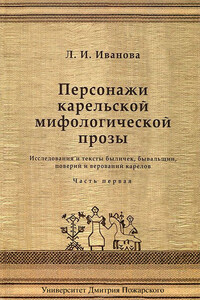
Данная книга является первым комплексным научным исследованием в области карельской мифологии. На основе мифологических рассказов и верований, а так же заговоров, эпических песен, паремий и других фольклорных жанров, комплексно представлена картина архаичного мировосприятия карелов. Рассматриваются образы Кегри, Сюндю и Крещенской бабы, персонажей, связанных с календарной обрядностью. Анализируется мифологическая проза о духах-хозяевах двух природных стихий – леса и воды и некоторые обряды, связанные с ними.

Наркотики. «Искусственный рай»? Так говорил о наркотиках Де Куинси, так считали Бодлер, Верлен, Эдгар По… Идеальное средство «расширения сознания»? На этом стояли Карлос Кастанеда, Тимоти Лири, культура битников и хиппи… Кайф «продвинутых» людей? Так полагали рок-музыканты – от Сида Вишеса до Курта Кобейна… Практически все они умерли именно от наркотиков – или «под наркотиками».Перед вами – книга о наркотиках. Об истории их употребления. О том, как именно они изменяют организм человека. Об их многочисленных разновидностях – от самых «легких» до самых «тяжелых».