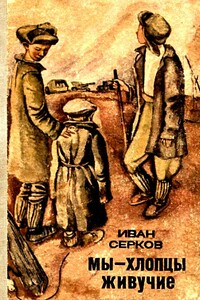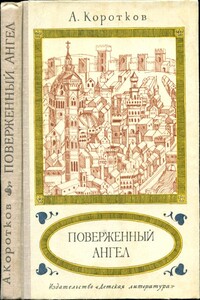— А не хочешь — смотри сам, — заключил он в конце концов и задул лампу.
Лежу я, а глаза хоть выколи — не спится, всё думаю, куда мне деться. Оно и учителем было бы неплохо, раньше мне хотелось им быть, и в школе агитировали, но здесь, пожалуй, ничего не получится. Не будет решета бобу, как обычно говорит бабушка. В техникуме, говорят, стипендия такая, что за один день можно проесть. Это, если бы техникум был недалеко от дома, то прибежал да пообедал, хоть всухомятку. Да и с одеждой туго — дальше некуда. Слышал я, как отец перед сном вздохнул:
— Это же сейчас, старая, нам на штаны парню надо разживаться, да и свитку какую-то на зиму не повредило бы. Борова продать, что ли?
Словом, наделал заботы тот диктант и мне и отцу. Но пусть он не очень переживает — я и сам себе заработаю. Подумаю хорошо и пойду в прицепщики. Они часто меняются. Говорят, что трудно. Ничего, переживу. На плуге за трактором ездить — не пешком ходить. Конечно, земли наешься больше, чем хлеба, зато заработки постоянные.
А лучше всего — у конюха, помощником Петьки Чижика. Он же мой ровесник, так что я с табуном не справлюсь? Правда, вместе с Петькой ухаживает за лошадями и дед Коврач, но там того деда столько — один кашель остался. Как на луг табун гнать, так на коня надо подсаживать, будто на печь. Вот я на его место и стану. Тоже что ни день, то трудодень, а то и полтора.
— Ну если это и будет, то разве что по осени, как снопы свезут и картошку выкопают, — сказал утром отец, услышав о моих намерениях пойти в конюхи, — а пока что поставит тебя бригадир скорее всего на моё место — снопы возить, а меня, наверное, пошлёт на молотилку, ведь мужиков там мало, да и те калеки.
А бабушке мои конные замыслы пришлись не по душе:
— Тебе на коне гарцевать, а мне штаны латать? Где это я напасусь тех заплаток и ниток?
— Там оно ещё видно будет, — успокоил её отец, и мы пошли на колхозный двор, пошли всей семьёй: впереди отец с бабушкой, за ними я и Глыжка с кнутом через плечо.
Нинка-бригадирша, чёрная от солнца, словно головешка, увидев меня, обрадовалась, как родному сыну.
— Вот молодец, что вернулся в бригаду, — затараторила она, по-мужски здороваясь со мной, а потом резанула себя рукой по шее, — мне мужики вот как нужны.
Пока что никто надо мной не смеётся: мужчины курят под кузницей, женщины галдят своим гуртом. Никто обо мне не вспоминает. Зря только вчера, возвращаясь из училища, прятался от людей, словно бродяга с Сахалина.
Но хлопцы меня встретили совсем иначе.
— Здоров, офицер! — весело поздоровался со мной Костик Скок, наш балалаечник, и все хлопцы хохотнули, а Скачок — он из тех, кто ради красивого словечка родителей не пожалеет — начал клоуна из себя строить.
— Если бы вы видели, хлопцы, как он на последние гулянки приходил! — и пошёл перед всеми выпендриваться: грудь выгнул дугой, нос задрал на небо, губы надул и давай петлять худым задом в дырявых штанах. Все так и покатились от смеха, даже эта свинья Глыжка захохотал. Чьи здесь нервы выдержат? Бросился я с кулаками — и началась заваруха, и покатились мы по траве. Но хлопцы не дали душу отвести, навалились толпой и разняли. Ничего, один на один где-нибудь поквитаюсь. Однако если это ещё будет, то прозвище уже ко мне прилипло — офицер. В глаза и за глаза. Пришлось смириться — что ты сделаешь? На всех с кулаками бросаться не будешь — сам зубов не напасёшься. Да и прозвище не такое уж обидное. Вон одного хлопца с хутора Костогрызом дразнят, и то привык.
И вот начали разбирать со конюшни лошадей. Взрослые мужчины выводят более крепких и спокойных. Их запрягают в жатки-лобогрейки — есть такие, две на весь колхоз и в них лишь бы кого не запряжёшь, не каждая лошадь может жать. Иную в лобогрейке не удержишь никакими удилами, когда она застрекочет ножами, словно пулемёт, да замашет зубатыми крыльями. У лошадей тоже нервы есть, как говорит Чижик.
Более молодых и броских разбирают хлопцы, что возят снопы. Пошли и мы с Глыжкой выводить своего Стригунка. Как будущий конюх, я пристально ко всему присматриваюсь: есть ли тут хоть какой порядок. Кажется, что есть. Конюшня, правда, никудышная. До войны то была из брёвен, но она сгорела, когда проходил фронт. А эту слепили на живую нитку: только столбы деревянные, а стены — плетень из лозы, обмазаны глиной. Много где глина осыпалась, и сквозь дыры видна улица. Надо будет после жатвы сказать Нинке, чтобы хоть воз глины привезли, да всё замазать — зимой дуть будет.
А внутри — мириться можно. На каждой лошади станок, на каждом станке табличка, на табличках надписи химическим карандашом: «Буян», «Слепка», «Топтун», «Адольф», «Стригунок». Правда, написано коряво и с ошибками, но я сам потом перепишу, у меня почерк хороший.
Хомуты тоже развешаны по порядку — каждому коню свой. Вот это правильно, чужой хомут шею тебе натрёт до крови, и не увидишь когда. А что седёлки и дуги где попало — это упущение, так, извините, у хозяев не делается, мой дед Николай не похвалил бы. Если я приду сюда, каждая лошадь не только хомут, а будет иметь всё своё, личное; я возьмусь и за Петьку, и за Коврача, или толку не будет.