Мой друг Трумпельдор - [56]
Всякое сочинительство похоже на перетягивание каната. Ты приближаешься, а объект удаляется. В свое оправдание могу сказать, что никогда не лукавил. Сердце стучало, в глазах стояли слезы. Что получилось — не мне судить. Человек тоже рождается для чего-то прекрасного, а проживает то, что ему суждено.
Был Иосиф — и его обстоятельства. Сначала все было неплохо, а потом наоборот. Может, это национальное — не справа налево, а слева направо? Или это было сделано для того, чтобы мы еще долго скучали по нашей газете. А еще печалились при виде сапожных мастерских. Ведь тут просто чинили обувь — и ничего больше.
Правда, как уже сказано, Иосифа щадили пули. Их было не меньше, чем пчел в улье, но они облетали его стороной. Только в Тель-Хае он понял, что уязвим. Может, ангел-хранитель от него отвернулся? Или засмотрелся на своего любимчика — и зевнул?
Вряд ли я когда-нибудь получу ответ на этот вопрос. Впрочем, некоторые вопросы существуют не для ответов, а для того, чтобы с ними жить.
Как складывалась моя судьба после его смерти? Только я собрался обойтись без истории, как этой истории стало слишком много. Что только не происходило! Так трясет и подташнивает на корабле в шторм.
Год, кстати, двадцать второй. Надо сказать, в нашей жизни не самый страшный. Еще недавно выйдешь за папиросами — и не факт, что вернешься. Скорее всего,
попадешь в морг. Теперь: кури — не хочу! Да и гуляй сколько угодно! Правда, арестовывать стали чаще. Взяли всех — левых, правых, тех, кто в центре. Оглянешься, а вокруг все больше людей без прошлого.
Вот что теперь в цене. Прошлого — с гулькин нос, а будущего — с избытком. Трудней всего таким, как я. У меня столько было всякого, что хватит на десять дел. Хочешь — арестовывай как приятеля Трумпельдора, а хочешь — как эсера. Если пороешься, то обнаружишь что-то еще.
В этом месяце брали эсеров. Что ж, открещиваться не привык. Эта компания для меня не чужая. Так что соглашаюсь без споров. Было — значит, надо платить.
Вскоре я и мои товарищи по партии переместились в Сибирь. Живем, особенно не тужим. Говорим о наших ошибках. Что следовало сделать для того, чтобы здесь оказались не мы, а наши противники?
Думаю, эти разговоры позволялись для того, чтобы однажды всех упечь. Каждому досталось место в камере и отрезок неба в клеточку. Кстати, того, кто нас заложил, поместили в одиночку. Вдруг кто захочет выяснять отношения и распустит руки?..
Каждый день из камеры кого-то выдергивали. Судя по всему, это была очередь — раз потом никто не возвращался. Следующий я — или через одного. Вот, думаю, вскоре расскажу другу, что делал в его отсутствии.
Как видите, не привелось. А ведь и кроме этого случая возможностей хватало. Со мной это могло случиться раз семь. Четыре — в войну и революцию, еще три — в Палестине. Тем удивительней, что я жив. Наверное, кому-то понадобилось, чтобы оставался свидетель. Чтобы он смотрел на догорающее небо и вспоминал свою жизнь.
Вы знаете, я не люблю высовываться. Помню, в гимназии проштудирую учебник, но руку на уроке не тяну. Выжидаю. Наконец меня вызывают к доске. Тут я встаю из-за парты — голос тихий, руки по швам, улыбка смущенная — и получаю «отлично».
Вот и сейчас мне не хочется опережать события. Когда-нибудь спросят: а не оставил ли он мемуаров? Тут и выяснится, что к этому вопросу я подготовился. Вот они, мои записки. Лежат, есть не просят, места не занимают. Зато когда ими заинтересуются, они откроются в самом главном.
Во времена Иосифа свой дневник я держал в тайнике. Быстро что-то набросаю и сразу спрячу. Больно много любопытных. Отвлечешься, и твои откровения станут известны всем.
Правда, конспиратор из меня никакой. Недостает хладнокровия. Надо быть собранным, а я, когда пишу, улетаю. Однажды увлекся — и вдруг слышу его голос. Оказывается, все это время он стоял за спиной.
Можно догадаться, что мне досталось. Не жалко, говорит, сил на глупости? Не лучше ли подумать о том, что мы обедаем в кабаках? Может, с этого и начнем? А то писателем ты стал, а взрослым человеком — нет.
Еще он сказал: не боишься накаркать? Как бы не раздразнить будущее! Тех, кто много о себе думает, оно ставит на место.
«Представь муравейник, — продолжал Иосиф. — Все что-то тащат наверх — и мчатся вниз. Вообрази, выходит приказ: назначаем главного. Это же конец всему! Теперь все будут бегать, оглядываясь. Куда он, туда и они».
Вот такое сочетание убежденности, смущения, постоянного вслушивания в то, что еще не случилось. Ну и я ему под стать. Правда, без его уверенности. Наверное, потому мы нуждались друг в друге. Случалось, я чувствовал себя Иосифом, а Иосиф мною.
Прежде я обращал внимание на внешнее. На то, какой рост ему дала природа. Какое положение он занимает. Потом я понял, что есть нечто более важное. Во-первых, упомянутое неприятие «ячества». Во-вторых, отношения с законом. Не с уголовным или гражданским, а всеобщим. Я не сразу понял, что такой есть. Еще позже нашел его формулу.
Вы будете смеяться, когда узнаете, что это было за издание. Не Тора, не Библия, а старый театральный журнал. Здесь печатались воспоминания одного актера. Ему повезло: перед самым закатом Мастера он участвовал в возобновлении «Дон Жуана».

Александр Семенович Ласкин родился в 1955 году. Историк, прозаик, доктор культурологии, профессор Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. Член СП. Автор девяти книг, в том числе: “Ангел, летящий на велосипеде” (СПб., 2002), “Долгое путешествие с Дягилевыми” (Екатеринбург, 2003), “Гоголь-моголь” (М., 2006), “Время, назад!” (М., 2008). Печатался в журналах “Звезда”, “Нева”, “Ballet Review”, “Петербургский театральный журнал”, “Балтийские сезоны” и др. Автор сценария документального фильма “Новый год в конце века” (“Ленфильм”, 2000)

Петербургский писатель и ученый Александр Ласкин предлагает свой взгляд на Петербург-Ленинград двадцатого столетия – история (в том числе, и история культуры) прошлого века открывается ему через судьбу казалась бы рядовой петербурженки Зои Борисовны Томашевской (1922–2010). Ее биография буквально переполнена удивительными событиями. Это была необычайно насыщенная жизнь – впрочем, какой еще может быть жизнь рядом с Ахматовой, Зощенко и Бродским?

Около пятидесяти лет петербургский прозаик, драматург, сценарист Семен Ласкин (1930–2005) вел дневник. Двадцать четыре тетради вместили в себя огромное количество лиц и событий. Есть здесь «сквозные» герои, проходящие почти через все записи, – В. Аксенов, Г. Гор, И. Авербах, Д. Гранин, а есть встречи, не имевшие продолжения, но запомнившиеся навсегда, – с А. Ахматовой, И. Эренбургом, В. Кавериным. Всю жизнь Ласкин увлекался живописью, и рассказы о дружбе с петербургскими художниками А. Самохваловым, П. Кондратьевым, Р. Фрумаком, И. Зисманом образуют здесь отдельный сюжет.
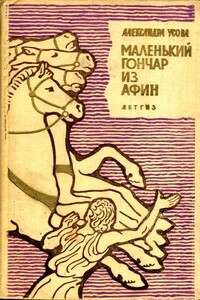
В повести Александры Усовой «Маленький гончар из Афин» рассказывается о жизни рабов и ремесленников в древней Греции в V веке до н. э., незадолго до начала Пелопоннесской войныВ центре повести приключения маленького гончара Архила, его тяжелая жизнь в гончарной мастерской.Наравне с вымышленными героями в повести изображены знаменитые ваятели Фидий, Алкамен и Агоракрит.Повесть заканчивается описанием Олимпийских игр, происходивших в Олимпии.

В том избранных произведений известного датского писателя, лауреата Нобелевской премии 1944 года Йоханнеса В.Йенсена (1873–1850) входит одно из лучших произведений писателя — исторический роман «Падение короля», в котором дана широкая картина жизни средневековой Дании, звучит протест против войны; автор пытается воплотить в романе мечту о сильном и народном характере. В издание включены также рассказы из сборника «Химмерландские истории» — картина нравов и быта датского крестьянства, отдельные мифы — особый философский жанр, созданный писателем. По единодушному мнению исследователей, роман «Падение короля» является одной из вершин национальной литературы Дании. Историческую основу романа «Падение короля» составляют события конца XV — первой половины XVI веков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом городе Кафа мирно старился Абу Салям, хитроумный торговец пряностями. Он прожил большую жизнь, много видел, многое пережил и давно не вспоминал, кем был раньше. Но однажды Разрушительница Собраний навестила забытую богом крепость, и Абу Саляму пришлось воскресить прошлое…

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.
