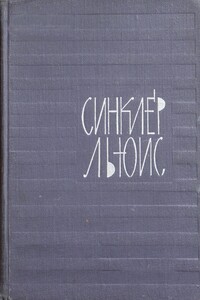Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис - [2]
«Лингвистический поворот» в социальных и гуманитарных науках слишком часто отказывал нам в том, чтобы исследовать самое интересное в человеческих практиках – в частности, их материализованный, ситуативный характер, делая упор на определенные аспекты визуально-вербального как «единственного вместилища общественного знания» в ущерб осязательному, акустическому, кинестетическому и иконическому… В рамках нерепрезентативной теории утверждается, что практики задают наше ощущение реальности… она занимается мыслями в действии, презентацией, а не репрезентацией… она рассматривает процесс мышления, в котором участвует тело целиком. Это означает, что нерепрезентативные модели повышают цену всех чувств, не только визуальных, и их методы разработаны не только для акта зрения[5].
Столь различные по своей направленности, идеи Уолфриса и Трифта приводятся к общему знаменателю во влиятельной работе социолога Мишеля де Серто, где город понимается как архив множества конкурирующих друг с другом прошлых, которые при этом являются «материализованными». Признавая, что город непостижим и субъективен, де Серто тем не менее предлагает исследовать его природу посредством изучения эмоциональной составляющей повседневности и рассматривать скрытую роль столичного пространства через анализ немых бытовых сцен. Представляется интересным, взяв на вооружение то, каким образом де Серто совмещает мифическое и физическое при рассмотрении городской жизни, принять в анализе феномена столицы за объект исследования одежду: ведь мода – и как предмет, который в столице производится и потребляется, и как эфемерный и меняющийся код, отражающий желания и установки, – едва ли не самый богатый материал для изучения взаимоотношений между временем и пространством, на основании которых и можно судить о том, что модерность зародилась в городах:
Жесты и нарративы… представляют собой последовательность операций, проделанных над и с лексиконом вещей. Жесты – подлинные архивы города… Они каждый день перекраивают городской ландшафт. Они ваяют тысячи прошлых, которые, может быть, больше нельзя назвать по имени и структура которых больше не отражает опыта города… Бессловесные истории ходьбы, одежды, жизни или готовки еды формируют квартал за счет тех, кто ушел; они оставляют следы своих воспоминаний, которые больше не имеют места: детство, семейные традиции, безвременные уходы. Такова же и «работа» городских нарративов. Они постепенно превращают различные места в кафе, офисы и жилые здания… Оперируя лексиконом объектов и хорошо известных слов, они создают иное измерение, то фантастическое, то преступное, то страшное, а то легитимирующее. Именно так они делают город «правдоподобным», воздействуют на него с непостижимым размахом, который еще требуется оценить, и открывают его для путешествий. Они – ключи к городу, они дают пропуск к тому, что он есть: к мифу[6].
Конечно, подходы вроде описанных выше уже были взяты на вооружение другими исследователями и использовались для тонкого анализа города и его мифов. К примеру, Ричард Сеннет проследил захватывающую историю городского планирования, опыта городской жизни и его связи с модерностью, произведя тщательную деконструкцию развивающейся символики тела в западной культуре. Впрочем, его интересуют тела абстрактные или обнаженные или и абстрактные, и обнаженные одновременно; их вены, нервы и мышцы приспособлены к развитию транспортной системы, восприимчивы к неврозу безликой городской толпы или деформированы давлением политических режимов или институтов мегаполиса. Но в анализе Сеннета в целом отсутствует тело одетое и модное как означающее коммерческих, социальных и досуговых сфер города[7].
Достойных текстов, в которых следование моде выделялось бы в качестве центрального концепта городской культуры, немного, и я полагаю, будет справедливо предположить, что их авторы были прежде всего озабочены другими вопросами, нежели созданием истории города с опорой на вестиментарные привычки его обитателей: Валери Стил, написавшая материальную историю парижской индустрии моды и ее глобального доминирования; Элизабет Уилсон, с ее историей женского опыта существования в городской среде, который по большому счету определялся опасностями и ограничениями, так что моде отводилось в этой работе место всего лишь одного из феноменов, которые привносили в этот опыт удовольствие и ощущение неловкости; и Марк Уигли, изучивший чувства вины и обязанности, которые архитекторы-модернисты, планировавшие города в начале XX века, испытывали по отношению к феминизированной сфере моды[8]. Итак, до сих пор использование в качестве инструмента для анализа столичной культуры отношений между модой, пространством, временем и местом не считалось достаточно значимым, чтобы посвящать ему отдельное исследование.
Модель, подходящую для поставленной нами исследовательской задачи, можно найти в работе географа Дэвида Гилберта[9]. Он предлагает пять исторических мотивов, при помощи которых можно описать любой «длительный процесс развития географии столиц мировой моды», и, конечно, при разборе конкретных эпизодов, которые составляют наше исследование, эти мотивы используются. Во-первых, Гилберт считает, что расцвет модного города обусловлен появлением в XVIII веке «современных» городских форм розничной торговли и потребления. Такие новаторские практики в области торговли и демонстрации товара концентрировались в разных и конкурирующих между собой местах по всему миру, однако их развитие было особенно заметным в разное время в Париже и Лондоне, затем в Берлине и Нью-Йорке и, наконец, в XX веке – в Милане и Токио. Во-вторых, он отмечает, что экономические и символические системы европейского империализма складывались на протяжении XVIII–XIX веков, когда политика размещения модных заказов строилась в соответствии с системой международных торговых и производственных сетей, учрежденных как часть колониального проекта. Их становление совпало с популяризацией канонов экзотического и роскошного стилей, благодаря которым европейские столицы ощутили свое главенствующее положение в мире и в умах. В-третьих, вследствие того что власть империй возросла, мода стала восприниматься как актив, который был наравне с национальной архитектурой, выставками, масштабными градостроительными планами и туризмом и рождал конкуренцию между городами и странами.
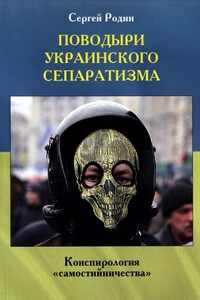
Издательство Русского Имперского Движения представляет очередной труд С.С. Родина, публициста, критика «украинства» как русофобской подрывной идеологии, автора известных книг «Отрекаясь от русского имени. Украинская химера» и «Украинцы». Антирусское движение сепаратистов в Малороссии. 1847 - 2009». Новая книга под названием «Поводыри украинского сепаратизма. Конспирология самостийничества» обличает закулисную подоплёку «незалэжности» и русофобскую, антиправославную политику временщиков в Киеве. Родин в максимально сжатом виде подает малоизвестную информацию об инспираторах и деятелях антирусского сепаратизма в Малороссии, основанную на объективных исторических фактах.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
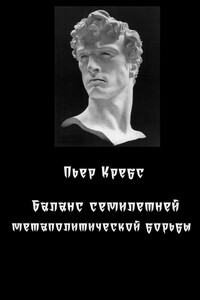
Мы переживаем политический перелом: старый спор между «правыми» и «левыми» в сфере социальных вопросов утрачивает свою силу. Официальные правые и левые все больше начинают заключать друг друга в идеологические объятия, за которыми тут же следуют политические: они обнаружили общность в том, что касается дальнейшего существования так называемой западной цивилизации, а именно, прежде всего, в тех областях этой цивилизации, которые можно оценить лишь негативно: в областях ее властно-структурных, эгалитаристских, экономических и универсалистских «ценностей».Эта книга хочет сделать что-то против этого.

«Гефсиманское время» – время выбора и страданий. Но это время, соединяя всех, кто пережил личное горе или разделил общее, как никакое другое выражает то, что можно назвать «личностью народа». Русский писатель обращается к этому времени в поисках правды, потребность в которой становится неизбежной для каждого, когда душа требует предельной, исповедальной честности во взгляде на себя и свою жизнь. Книга Олега Павлова проникнута этой правдой. После Солженицына, опубликовавшего «Россию в обвале», он не побоялся поставить перед собой ту же задачу: «запечатлеть, что мы видели, видим и переживаем».

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.
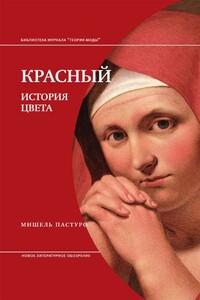
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.