Мировая республика литературы - [151]
Чтобы целиком понять это невидимое и таинственное измерение времени, следовало, таким образом, показать, как происходило зарождение литературного времени в начале становления литературного пространства, наделенного собственными законами и правилами. Это пространство может быть названо «интер — национальным», поскольку оно строится в контакте (в борьбе, в соперничестве) между национальными пространствами, оно растянулось сегодня на весь мир. Структура мирового пространства, та, которую Барт называл географией, тоже временна: каждое национальное культурное пространство (и следовательно, каждый писатель) имеет не столько пространственные, сколько временные координаты. Существует литературное время, которое измеряют по литературному Гринвичу, относительно которого можно нарисовать эстетическую карту мира, определяя место каждого пространства и каждого писателя по расстоянию от центра.
Стоит только попытаться зарисовать изменчивую структуру этого пространства, и самый традиционный и типичный образ писателя устаревает, творчество предстает в чистом виде, без корней и без истории — все божественное легко, говорил Барт. Если верно, что эта литературная вселенная организована как своего рода параллельная реальность, соответственно, каждый писатель непременно оказывается размещен в этом пространстве: «Каждый из нас не только чувствует, что занимает определенное место во времени, — пишет Пруст в конце «Обретенного времени», — но это самое место он распознает и измеряет весьма приблизительно, как измерил бы то место, что мы занимаем в пространстве…»[675] Писатель даже дважды расположен в пространстве — времени: один раз — сообразно позиции, занимаемой им в национальном литературном пространстве, из которого он вышел, и другой — сообразно тому месту, которое он занимает в общем пространстве.
Иными словами, предлагая описание Мировой Республики Литературы, т. е. описание происхождения и структуры интернационального литературного пространства, я пыталась заложить основы настоящей литературной истории, и одновременно задать основные принципы нового метода интерпретации литературных текстов. Этим и объясняется неимоверная сложность предприятия: сам проект предполагал необходимость каждую минуту «менять очки», обосновывать взгляд на целое тем, что могло быть воспринято как незначительные детали, и пояснять самые исключительные явления примерами, которые могли показаться слишком обобщенными. Мне казалось, что в этой сложности я узнаю то, о чем говорил Пруст, когда в конце своих «Поисков…» он вспоминал о том непонимании, с которым ему пришлось столкнуться при первых попытках построения своего произведения как целого: «Вскоре я смог показать несколько набросков. Никто ничего не понял. Даже те, кто был благосклонен к моему осмыслению истин […], поздравлял меня, уверяя, будто я показал им их самих «под микроскопом», между тем как я, напротив, пользовался телескопом, чтобы разглядеть вещи вроде бы совсем крошечные, но казавшиеся мне таковыми потому лишь, что находились на слишком большом от меня расстоянии, в действительности же каждая из них была целым миром. Там, где я пытался отыскать общие законы, меня называли крохобором»[676]. Эти постоянные переходы от самого близкого к самому отдаленному и обратно, от микроскопического к макроскопическому, от писателя с его исключительностью ко всему огромному литературному миру предполагают новую герменевтическую логику: она и избирательная — поскольку старается понять текст во всей его исключительности и литературности, — и историческая. Читать текст, не отделяя литературный подход от исторического, — значит возвращать его в его собственное время, размещать его в литературной вселенной сообразно одному лишь особому, литературному, Гринвичу.
Но время, единственное, что создает литературную ценность — и конвертируется в древность, в кредит, в богатство, в саму литературность, — создает неравенство в литературном мире. Нельзя льстить себе надеждой, что мы пишем настоящую литературную историю, если мы при этом не отдаем себе отчета в неравенстве действующих лиц литературной игры и в особых механизмах, которые явно ею управляют. Наиболее древние литературные пространства одновременно и наиболее богаты, т. е. именно они и осуществляют неизбежное давление на весь литературный мир. Идея «чистой» литературы, свободной от истории, — это историческое изобретение, которое из — за дистанции, отделяющей самые древние пространства от недавно вошедших в литературную вселенную, навязывают всему литературному миру как универсальное.
Отказ от истории и в особенности от неравенства в структуре литературного пространства, мешает понять — и принять — национальные, политические и народные категории как основополагающие для «малоимущих» литературных пространств. При таком подходе невозможно понять сам этот литературный проект, понять, как многочисленны литературные предприятия на окраинах литературного пространства, или даже — как в случае Кафки — признать их таковыми. «Чистая» критика предлагает, в своем наивном неведении, собственные категории при анализе текста, чья история намного сложнее, чем принято считать. На полюсе чистой литературы национальные и политические категории не только игнорируются, они изначально исключены из самого определения литературы. Иначе говоря, там, где сама древность позволяет литературе освободиться почти от всех форм внешней зависимости в силу беззастенчивого этноцентризма, принято игнорировать ужасающую иерархическую структуру литературного мира, фактическое неравенство участников игры. Политическая зависимость, внутренние переводы, национальные и лингвистические интересы, накопление достояния, необходимого для вхождения в литературное время — все эти противоречия, связанные с замыслом и воплощением литературных произведений, явившихся с периферии Мировой Республики Литературы, и отрицаются, и игнорируются литературными законодателями. Поэтому все произведения с периферии бывают отвержены как нелитературные, т. е. не удовлетворяющие чистым критериям чистой литературы, или (реже) они бывают признаны, в силу невнятности самого принципа признания. Неприятие иерархической системы, соперничество, неравенство литературных пространств иногда превращаются в политику, подкрепленную невежественным этноцентризмом, в стремление к универсальной оценке (признанию или отлучению) составляющих мировой литературы.
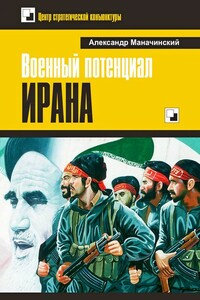
Зона Персидского залива переживает головокружительно быстрые и болезненные перемены. Конфликтный потенциал в этом непростом регионе достаточно высок, в него вовлечены главные мировые державы и местные родоплеменные объединения, разведывательные службы и таинственные религиозные общины. Усилиями Вашингтона, Парижа, Лондона и Москвы регион настолько милитаризован, страсти настолько накалены, что никто не предскажет для него спокойного развития событий. Здесь Вашингтон в лице Тегерана нашел серьезного оппонента, который проводит свою политику, чем вызывает большое неудовольствие в США.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
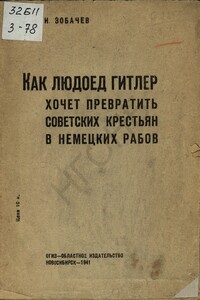
На страницах агитационной брошюры рассказывается о коварных планах германских фашистов поработить народы СССР и о зверствах, с которыми гитлеровцы осуществляют эти планы на временно оккупированных территориях Советского Союза.
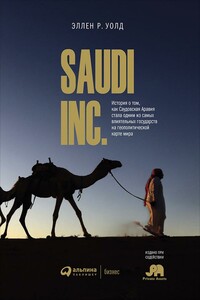
Книга специалиста в области геополитики и мировой энергетики Эллен Уолд посвящена истории Саудовской Аравии с начала XX века, когда Абдель-Азиз из рода Саудитов начал борьбу за объединение Аравийского полуострова, и до настоящего времени, когда Королевство стало одним из важнейших участников глобального энергетического рынка. Главные герои этой историко-политической саги — королевская семья аль-Сауд и самая прибыльная в истории нефтяного бизнеса компания Aramco. Читателя ждет захватывающее погружение в мир, где тесно переплелись религия и террор, бизнес и семейные распри, восточная мудрость и западные ценности, борьба за нефть и передел мирового энергетического рынка.
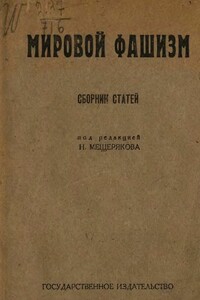
Фашизм есть последнее средство, за которое хватается буржуазия, чтобы остановить неумолимо надвигающуюся пролетарскую революцию. Фашизм есть продукт страха буржуазии перед этой революцией. А так как революция назревает во всех странах, в которых существует капитализм, то и фашизм в виде уже сформировавшихся организаций или в виде зародышей — существует повсюду. В сборнике помещены статьи о фашизме в ряде европейских стран.

От автора: Этот текст видится мне вполне реальным вариантом нашего государственного устройства в недалеком будущем. Возможно, самым реальным из всех прогнозируемых. Дело в том, что у каждой государственной системы есть вполне определенные исторические и технологические предпосылки. Верховая езда родила рыцарство и феодализм. Огнестрельное оружие родило «демократию по-американски». Сейчас интернет, продвинутые технологии и переизбыток огнестрельного оружия, рождают новую власть. Новое мироустройство, которого не было никогда прежде. Добро пожаловать в новый прекрасный мир!