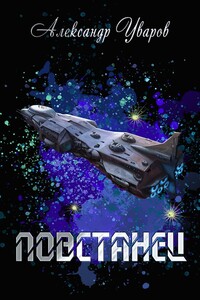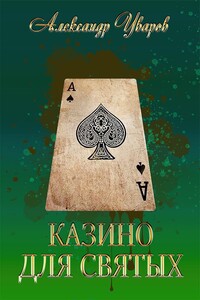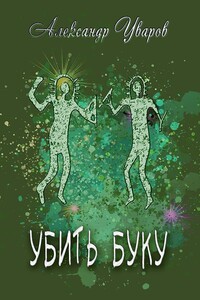— Откуда вы знаете? — спросил я. — Это же внутри…
— Эксперименты, — ответил Ками и положил фотографии в карман. — Наблюдения, интервью. Вы первый, кто проводит боевые испытания, но не первый, кто участвует в эксперименте.
— А не рискованна ли ваша откровенность, Ками? — мне и впрямь показался странным столь подробный его рассказ. — Стоит ли контейнеру слишком много знать? А если по прибытию в Москву меня потянет на откровенность? Или меня пригласят к откровенному разговору?
— О, это было бы великолепно! — Ками радостно взмахнул руками. — Боюсь даже мечтать об этом, что не сглазить.
— То есть?
— Игорь, вас невозможно обезвредить. Механизм действия вируса Москве совершенно неизвестен. Вакцины не существует. Любой человек, соприкоснувшийся с вами хоть на долю секунды — обречён. А если вы посетите Лубянку или вас пригласят её посетить — это будет самый лучший и прицельный удар, который мы когда-либо наносили. Максимум через месяц центральный аппарат ФСБ прекратит своё существование. Контейнер, доставленный прямо на Лубянку… Мечта! А вас уже никакая тюрьма не испугает. Вы — абсолютно свободны и неуязвимы. Как сама смерть. Даже ваш труп будет работать на нас, ведь вирус сохраняет жизнеспособность в течение столетий. Даже малейшая частица ваше тела будет смертельно опасна. В трупе, даже замороженном, он просто «спит». Пока его не «разбудят». Разве только полная кремация, включая костные ткани… Но это довольно дорого, да и производительность крематориев в Москве не слишком высокая… А могильники… Нет, могильники не помогут. Даже под слоем извести или хлора вирус сохраняет способность к заражению. Он может умирать и воскресать. Так что с момента заражения обратного хода не будет ни в коем случае.
— А карантин?
— Карантин? — Ками, задумавшись, откинулся в кресле, глядя на глотающий душу мёртвой белизной потолок. — Разве только вы в самолёте сказали бы экипажу, что больны… Самолёт посадили бы где-нибудь в Сибири на охраняемом военном аэродроме… Вас встретили бы гостеприимные ребята в костюмах с высшим уровнем биологической защиты… Умертвили бы пассажиров и экипаж в каком-нибудь герметичном бункере, а тела полностью кремировали… Что ж, возможно. Шанс. Но ведь не для вас. Не для того вы жили, Игорь, чтобы дышать. Не для того. Ведь так?
— Так.
— Вы долетите?
— Да.
— Молча и тихо?
— Да.
— И будете наслаждаться вашей свободой?
— Да.
— И жизнью. Особой жизнью. Без запретов и ограничений. Жизнью, где есть только ваши законы. Только ваш суд и ваша кара. И выбранная вами, только вами, смерть. Вы создадите свой мир. Вы станете богом, Игорь, и мы вам поможем.
— А сами?
— Что вы имеете в виду?
— Сами не боитесь умереть? Ведь вакцины не существует. Обратного хода нет. Вирус, единожды выпущенный на свободу, неуничтожим. Так?
— Так.
— Ками, я вас не понимаю. Основное свойство оружия — избирательность поражения. Вы же снабжаете меня оружием, которое уничтожит и вас самих. Не боитесь? Сами то на что рассчитываете?
— Мы не военные, Игорь. И не политики. Мы — революционеры.
— Вам тоже неприятен воздух?
— Представьте, что мы уповаем на Божью помощь. Убедительно?
— Не знаю… Не знаю, что это такое — «божья помощь».
— Мы предлагаем человечеству задачу и смотрим, насколько успешно оно справляется с её решением. Эту задачу не решить без вмешательства высших сил. Это и есть Божья помощь. Возможно, у нас в запасе будет всего несколько месяцев, недель или даже дней для того, чтобы дать людям возможность ощутить присутствие Создателя в этом мире. Дальнейшее — не важно. Творите с этим миром всё, что хотите. Он — ваш. Нам оставьте души. Для них вакцина у нас найдётся.
— Вы тоже готовы умереть?
— Да.
— Отчего же в одном месте собралось так много людей, которые не хотят дышать?
— Долгая история, Игорь… Как-нибудь в другой раз… И не здесь. Вы готовы?
— Готов.
— Тогда приступим. Идите за мной.
Грохот грозы нарастал.
Пахло дождём, хотя земля была ещё суха и первые, редкие капли, не упали пока на неё.
Я шёл по улицам, пугливо оглядываясь по сторонам.
Так просто было: уйти из квартиры, оставить мать, бежать от неё, подальше — искать пропавшего отца.
Искать отца?
Я странно равнодушен к нему. Иногда боюсь (когда он особенно сильно пьян), иногда он бывает мне немного симпатичен (когда дарит чудом сохранённую в кармане шоколадку в мятой упаковке… но то бывает редко).
Но — любовь? Нет, едва ли моё чувство по отношению к нему можно назвать любовью. Это даже не привязанность.
Я вовсе не тоскую по нему, когда задерживается на работе, или (что чаще бывает) после работы и до ночи не приходит домой. Я не жду его.
Не прислушиваюсь к глухому хлопанью двери подъезда, не жду с замиранием сердца тихого щёлкания лифтовых дверей на нашей лестничной площадке. Не вздрагиваю от нарастающего звука шагов на лестнице.
Всё это делает мама. Она любит его — моего отца.
Я равнодушен к нему. Просто лучше, если этот странный, почти незнакомый человек тихо сидит дома. А не пропадает где-то…
Так лучше и споконей для всех.
Я перехожу на бег.
Ветер усиливается. Поднимает пыль. В горле першит, начинается кашель.
Я останавливаюсь. Сплёвываю на землю. Ребром ладони вытираю рот.