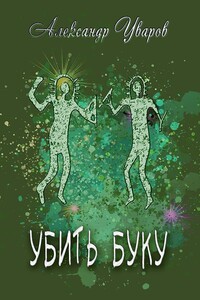Месяц смертника - [13]
— Игорян!..
Дядя Миша, папин приятель, покачиваясь, стоит у столба. Он пытается схватиться за столб, но промахивается. Едва держит равновесие.
Он улыбается и поправляет собирающийся в складки на отвисшем животе толстый тёмно-зелёный свитер.
Дядя Миша — приятель папы. Но не этот, не коллега… Дядя Миша — водитель большой машины, он её называет «фура». Фура он иногда оставляет на площадке у дома. Там, у трансформаторных будок. Ближе к дому её не поставишь.
Фура — слишком большая.
Дядя Миша — водитель. Он не работает вместе с папой…
«Это хорошо», — думаю я.
Папа — по строительной части. Так говорит Пётр, мамин брат.
Хорошо. Значит, папа не остался на работе. Если он пил с дядей Коля, значит — он где-то рядом с домом.
Почему-то я сразу подумал, что дядя Миша не просто так меня позвал. Позвал именно для того, чтобы сообщить что-то важное об отце.
— Папаньку ищёшь?! — воскликнул дядя Миша и отчего-то рассмеялся, оборвав короткий смех отрывистым, резким вслипом.
И махнул рукой.
— А он… эта.
Дядя Миша сунул руку в карман штанов, достал красную сигаретную пачку. Постучал ей по тыльной стороне ладони.
— Не куришь? — строго спросил он.
— Нет, — честно ответил я.
— Правильно, — сказал дядя Миша и неожиданно быстрым и точным движением сунул в рот сигарету. — Это знаешь, дрянь какая? У, ёбтыть!
Дядя Миша зажмурил глаза.
— Знаю, — ответил я.
И с нарастающим беспокойством почувствовал, как первые холодные дождевые капли стали падать мне на голову и руки.
— Нам в школе говорили… — продолжал я.
Признаться, не знал, что ещё сказать. Мне нужно было найти отца и вернуться домой с ним. Чтобы мама перестала плакать… Тошнит от её слёз, от темноты!
Чтобы она включила, наконец, свет!
Дядя Миша знал, я был уверен в этом — знал, где найти отца. Я стоял и терпеливо ждал, несмотря на начинающийся дождь, который скоро должен был перерасти в ливень с грозой.
Дядя Миша закурил и важно взмахнул рукой в сторону школы.
— Там папанька твой. Не дошёл, блин…
Он снова коротко хихикнул.
— Упал, понимаешь, у забора. Я его нести было, да где там! Лежит, вот, да мычит. Тяжёлый он, папка твой, а у меня здоровье уже не то. Не то здоровье, чтобы людей на себе таскать. А хоть бы и хороший людей, да здоровье всё-таки не то…
Дядя Миша выдохнул едкий, кисловатый дым.
И с глубокомысленным видом добавил:
— Да, вот…
Я повернулся и побежал к школе.
Не хотелось терять времени. И, тем более, не хотелось его благодарить за подсказку.
Он был противен! Ещё противней пьяного отца.
Ну почему, почему я должен говорить с ним? Слушать его? Зачем мне это?
Дыхание стало сбиваться. Тяжелеть.
Я бежал, перепрыгивая через растущие лужи, через побежавшие по дороге ручьи. В темноте и наползающем тумане дорогу разобрать было трудно и несколько раз я всё-таки попадал в наполненные водой выбоины на асфальте.
Старые кеды пропитались водой, и отрывисто чавкали в такт бегу. Пятки скользили по мокрым стелькам, стирая в мозоли кожу, бежать становилось всё труднее.
На повороте к школе я едва не упар, потеряв равновесие.
«Хватит…»
Я перешёл на быстрый шаг.
Можно не спешить — и так уже весь промок. И отец теперь уже где-то рядом.
Я пошёл вдоль низкого школьного забора, вглядываясь в едва освещённый дальними фонарями полумрак.
И, шагов через двадцать, я увидел его. Моего отца.
У разросшихся, с прошлого года не стриженных школьным садовником кустов сирени, прямо на мокрой земле сидел, прислонившись спиной к забору, мой отец.
Он мычал что-то нечленораздельное, мотал поникшей на грудь головой, иногда взмахивал руками, будто пытаясь поймать что-то в воздухе.
Он не видел меня. И, наверное, не хотел видеть.
Я подошёл ближе.
— Папа!
Он не повернул головы. Ничего не ответил. Он продолжал мычать и бормотать что-то непонятное.
Я положил руку ему на плечо.
Он дёрнулся, едва не завалившись на бок, так что я едва успел его подхватить.
Только тогда он заметил меня.
Он поднял голову.
И я едва не отпрыгнул назад, испуганный его побелевшим, обескровленным лицом и коротко блеснувшими в мутном фонарном свете желтоватыми, в красных прожилках, глазами.
Потемневшие, припухшие веки задвигались. Его зрачки едва заметно задрожали.
— Сына… — прохрипел он.
— Пап, домой надо, — прошептал я осипшим голосом.
И чувствовал, что говорю что-то не то, не то, что надо. И делаю что-то не то. Понимал, что теперь не домой его надо вести, а…
— Может, врача вызвать? — спросил я. — Тут автомат недалеко, у гастронома. «Скорую» же бесплатно… Я позвоню?
Отец замотал головой.
— Не… Не, сына… Домой надо. Правда?
Он сделал попытку приподняться, но смог — и тяжело осел на землю.
Я подхватил его под локоть.
— Вставай, пап! Правильно, домой надо. Мама ждёт. Плакать уже начала. Давай, вставай! Собирайся!
«Почему — собирайся? — подумал я. — Что ему собирать?»
Сам не знаю, отчего в голову лезли именно такие мысли.
Но сосредоточиться и подумать о чём-нибудь более умном я не мог.
Дождь резко усилился, засверкали молнии.
В голубом их свете лицо отца показалось не просто белым, а мертвенно-бледным.
Я схватил его за руку. И резко потянул на себя.
Тело его, обычное худое и лёгкое, которое даже мне, маленькому и худому мальчишке, казалось не по-мужски тонкокостным и слабым, стало вдруг грузным, тяжёлым, неподъёмным, будто напитавшимся, расползим и разбухшим от дождевой воды.
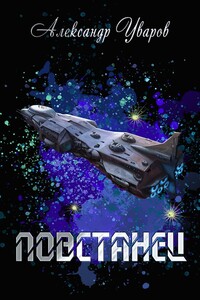
«Проклятая планета! Дикий мир: ни пройти, ни проехать. Только вертолётами, а по равнинам — глиссерами на воздушной подушке. Вертолёты, правда, дикари научились сбивать. И глиссеры уничтожать научились… Плохие у них привычки, у этих животных. Дрессирует их кто-то, что ли?».

Удивительная и необыкновенная любовно-мистическая история, произошедшая на берегу южного океана, на несколько дней и ночей ставшего местом пересечения реалий земного и потустороннего бытия.

Талантливое произведение современного автора в детективном жанре. «Этот чёртов доктор! Что он сделал с этими пациентами? Что за программу он в них вложил? Вы не контролируете его, полковник. Нет! Он водит вас за нос, он дурачит вас, а с вами — и всё Управление. Вы дали ему необходимые ресурсы, финансирование, вы позволили отбирать больных, вы предоставили специалистов по боевой подготовке! …Что они натворят? И где их теперь искать?».

В 1980 году на верфи «Мейер» в немецком городе Папенбурге был построен паром, который через четырнадцать лет вошел в историю под именем «балтийский Титаник».В ночь с 27 на 28 сентября 1994 года паром «Эстония» затонул в штормовом Балтийском море на полпути между Таллином и Стокгольмом. Это, пожалуй, единственное, что известно нам достоверно об одной из величайших трагедий бурных 90-х годов двадцатого столетия.Предлагаемый вниманию читателей роман — одно из немногих художественных произведений (а может быть, пока и единственное в своем роде), рассказывающих о неизвестных доселе событиях, предшествовавших этой катастрофе.
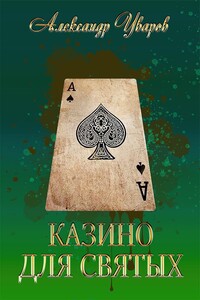
Остросюжетный бизнес-роман о крупном холдинге казино и игровых автоматов, действующем в России накануне запрета игр на основной территории страны.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

Воспоминания о детстве в городе, которого уже нет. Современный Кокшетау мало чем напоминает тот старый добрый одноэтажный Кокчетав… Но память останется навсегда. «Застройка города была одноэтажная, улицы широкие прямые, обсаженные тополями. В палисадниках густо цвели сирень и желтая акация. Так бы городок и дремал еще лет пятьдесят…».

Рассказы в предлагаемом вниманию читателя сборнике освещают весьма актуальную сегодня тему межкультурной коммуникации в самых разных её аспектах: от особенностей любовно-романтических отношений между представителями различных культур до личных впечатлений автора от зарубежных встреч и поездок. А поскольку большинство текстов написано во время многочисленных и иногда весьма продолжительных перелётов автора, сборник так и называется «Полёт фантазии, фантазии в полёте».

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.

Перед вами грустная, а порой, даже ужасающая история воспоминаний автора о реалиях белоруской армии, в которой ему «посчастливилось» побывать. Сюжет представлен в виде коротких, отрывистых заметок, охватывающих год службы в рядах вооружённых сил Республики Беларусь. Драма о переживаниях, раздумьях и злоключениях человека, оказавшегося в агрессивно-экстремальной среде.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…