Мелодия на два голоса [сборник] - [16]
— Я тебе долг привез, за щенка! — сказал Воробейченко. — Щенок оказался дворняжкой, меня обманули…
Вот новый, простой и гениальный ход. Воробейченко благородно отсчитывал деньги. Сейчас он вернет деньги, и Пономарев у него снова на веревке, в капкане, в петле. А он деньги не возьмет.
— Почему ты преследуешь меня? — ровно спросил Пономарев. И сам ответил: — Ты завидуешь мне. Но чему завидовать?
Воробейченко вскинулся, оторопел, как игрок, предъявивший двадцать одно, при пересчете оказавшееся липой. Но тут же взял себя в руки.
— Ты бредишь, старина! — ласково и злобно сказал он. — Это ты возомнил о себе, братишка, переработал. Завидовать-то нечему. Сам говоришь.
И он захохотал открыто и радостно. Может быть, он приехал с ревизией. Пусть.
— Да, нечему, — возразил спокойно Пономарев. — Когда ты успел таким стать, Веня? В школе ты плакал из-за двоек. Может быть, тебе их слишком часто ставили?
— Каким?
Пономарев не мог сказать — каким. Он чувствовал в Воробейченко стремление самоутвердить себя. Но не путем достижения вершин, а путем подравнивания этих вершин до своего уровня. Как богатырь, стоял Воробейченко среди равнины с лопатой и подравнивал всякие неровности почвы. Он не доказывал свое превосходство, но убеждал себя в общем убогом уровне. Он был слаб. Но в нем жила страсть выравнивания.
— Мелким очень, — сказал Пономарев. Его чувства были воспалены, но мозг спокоен. Ему сейчас небывало захотелось продолжать свою прежнюю работу. Но это было неосуществимо, по крайней мере сию минуту.
— Ты мне мешаешь, — добавил он. Больше не было между ними дружбы и борьбы. Просто однажды Воробейченко помешал ему и теперь мешает. Только и всего. Как дождь мешает землекопу.
— Так у нас не получится разговор, — примирительно заметил Воробейченко. Ему-то идти, собственно, было пока некуда. Он никак не умел сравнять еле заметный торчащий бугорок. Это его бесило.
— А нам и не нужно разговаривать! — улыбнулся от успокоительной своей проницательности Пономарев. — Не все люди должны друг с другом разговаривать. Некоторые могут без разговоров разойтись. Верно? И ты катись отсюда к…
Мог Воробейченко еще раз попытать удачу, колупнуть бугорок с другого конца. Он мог сказать: «Как ты наивен, старина! Ты же все себе вообразил. То, что ты придумал между нами, — в действительности не существует и не может быть. Это же твоя фантазия, черт побери». И если бы он так сказал, Пономареву пришлось бы туго. Он привык знать, что явления неоднозначны и впечатления всегда субъективны, поэтому сбить его с толку было — раз плюнуть. Но Воробейченко ничего, не сказал. Он сделал резкое движение к Пономареву, будто хотел его укусить. Тут вернулся Костя из магазина.
Костя по воспитанности обрадовался незнакомому гостю и радостно назвал свое имя. Но в ответ услышал суровое матерное слово. Воробейченко оттолкнул его от двери и вырвался на волю, аки бес.
Пономарев, бледный, улыбнулся Костиному недоумению. Он медленно одевался, потом заспешил: одна мысль, еле ползущая и неясная погоняла его. Он натянул рубашку и выбежал следом за Воробейченко.
Он догнал Воробейченко на автобусной остановке.
— Венька, — крикнул он, хотел что-то спросить про Аночку, да увидел суматошное лицо Воробейченко, смутился, промямлил: — Венька, тебе плохо, да?
А Воробейченко сам не дурак, догадался.
— Не плохо, — сказал он глухо. — Хорошо. С Аночкой у меня ничего серьезного нет. Спим только вместе. Никаких обязательств на мне нет. Это ты хотел узнать?.. Не моргай! Ишь ты, херувим. Не всем же быть чистыми, понял.
Пономарев повернулся, как солдат, на каблуках.
Венька сзади громко, азартно захохотал. С Аночкой он спит, бездельник. Застрелить бы весельчака из Костиной берданки.
10
Костя завел нежную дружбу с девушкой Клавой Поляковой, и Пономарев стал лишним в доме. Пока еще Костя ничего не говорил, да и вряд ли при его интеллигентности мог сказать, но иногда на его одухотворенное чело набегала тень. Однажды Пономарев вернулся с работы поздно, дверь была заперта изнутри, пришлось ждать минут пять; пока растерянный Костя отопрет. В комнате сидела смущенная Клава. Получилась неловкость.
Пономарев знал, что с жильем в Р. было так же трудно, как в Москве. Многие жили (даже семейные) в общежитии барачного типа. На худой конец, Пономарев ведь мог рассчитывать на койку в этом общежитии.
И он отправился на прием к главному инженеру Вячеславу Константиновичу Бобру-Загоруйко, предвкушая откровенный разговор. Такой разговор точно состоялся.
— Вы хорошо работаете, — откровенно сомневаясь, сказал Бобр-Загоруйко. — Мы, конечно, при первом удобном случае дадим вам комнату… Но ведь, — Вячеслав Константинович поморщился, — вы, Анатолий Федорович, не приживетесь у нас. Простите меня за прямоту. Не на месте вы у нас.
Сколько раз, вспомнить жутко, с ним говорили начистоту. Может быть, он сам оставлял впечатление исключительно непрямодушного и непорядочного человека, и таким образом ему на это обстоятельство намекали.
— Я тоже буду откровенен, — внутренне смеясь, заметил Пономарев. — Вряд ли вы считаете себя психологом, Вячеслав Константинович. Но тут вы точно угадали. Я не приживаюсь… Что же мне делать? Не прижившись уже в двух местах? Искать третье место! А где гарантия, что я там приживусь?
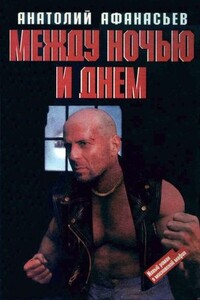
На московского архитектора «наезжает» бандитская группировка, его любимая подвергается жестокому и циничному надругательству…Исход этой неравной схватки непредсказуем, как непредсказуем весь ход событий в романах Анатолия Афанасьева.

Напряженный криминальный сюжет, изобилие драматических и любовных сцен, остроумная, часто на грани гротеска, манера изложения безусловно привлекут к супербестселлеру Анатолия Афанасьева внимание самых широких кругов читателей.

«Грешная женщина» — вторая часть самого «громкого» уголовного романа прошлого (1994) года «Первый визит сатаны». Писатель в этом произведении показал одну из болевых точек нашего смутного времени — криминализацию общественного сознания. Преступность как фон даже интимных, нежных человеческих отношений — удивительный феномен перехода к «рыночному раю». Изысканный, остроироничный стиль авторского изложения, напряженный драматический сюжет безусловно принесут «Грешной женщине» популярность среди наших читателей.
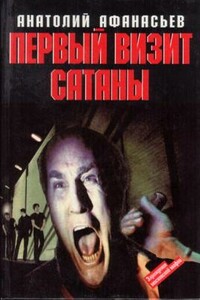
Современный мир в романах Анатолия Афанасьева — мир криминальных отношений, которые стали нормой жизни — жизни, где размыты границы порока и добродетели, верности и предательства, любви и кровавого преступления… «Первый визит сатаны» — роман писателя о зарождении московской мафии считается одним из лучших.
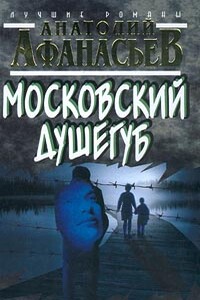
Молодая красивая женщина становится профессиональным убийцей на службе у московской мафии.Она безжалостна к своим жертвам, но ее настигает любовь…
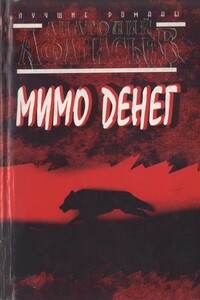
Сегодня Анатолий Афанасьев — один из самых популярных современных писателей… Его книги везут почитать на отдых куда-нибудь в Ниццу или на Багамы живые персонажи его писаний. Пресыщенные «новые русские», полеживая на золотистом песке, по-мазохистски читают о своих же дьявольских деяниях… Афанасьев любит гротеск, любит бурлеск с фантасмагорическими героями… Его поразительная ирония вызывает шок у читателя.В новом романе «Мимо денег» писатель вступает в битву с сатанинским укладом, вторгается в страшный и мерзкий мир, как в синильную кислоту, в которой невозможно уцелеть живому…
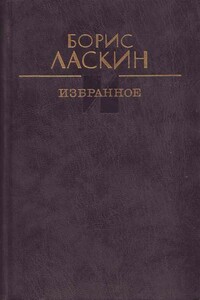
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
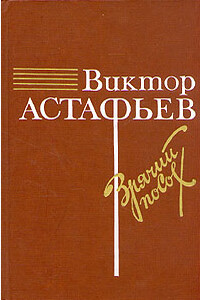
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть «Этот синий апрель…» — третье прозаическое произведение М. Анчарова.Главный герой повести Гошка Панфилов, поэт, демобилизованный офицер, в ночь перед парадом в честь 20-летия победы над фашистской Германией вспоминает свои встречи с людьми. На передний план, оттеснив всех остальных, выходят пять человек, которые поразили его воображение, потому что в сложных жизненных ситуациях сумели сохранить высокий героизм и независимость. Их жизнь — утверждение высокой человеческой нормы, провозглашенной революцией.