Маршрут Эдуарда Райнера - [8]
— Север?
— Почти.
Они лежали весь день, только сходили в вагон-ресторан пообедать, читать Дима и не пробовал, а Райнер повертел Эразма Роттердамского, ничего не сказал, бросил на столик, лег.
«Об этом я тоже когда-то слышал, — думал Райнер, покачивая ногой. — Зачем это надо?» Он все принюхивался к ветру под потолком, старался уловить в нем что-то, чего ему недоставало, и не мог. В Медвежегорске он высунулся в окно, прижмурился, сквозь ресницы вспыхивали искры серого плеса, за соснами мелькало и пропадало озеро, и он ясно ощутил запах большой воды. Вот чего ему не хватало. Большой воды.
— Сходи прикупи до Чупы, — сказал. — Вылезем в Чупе.
— Где? Зачем?
— На следующей после Лоухи. Я передумал: сначала море, потом Лоухи. Сходи, потом объясню.
Дима сбегал в кассу и доплатил за билеты до станции Чупа, ничего не понимая. В купе его ждал Райнер. Он расстелил карту.
— Смотри: вот система озер западнее Сонострова. Но у нее нет связи с нашей. Мы из Чупы морем зайдем в нее и будем не спускаться, а подыматься до Лоухи. Найдем волок, думаю. Зато уж здесь-то точно никого нет.
Дима кивал, разглядывал карту. Райнер с хрустом потянулся, зевнул. Он и самому себе не сумел бы сказать, что изменил маршрут только потому, что захотел увидеть море как можно скорее.
Блесны, мормышки, искусственные мушки. Дима никогда не видел такого: полупрозрачные пластмассовые креветки, дрожащие, как желе, матово-золотистые, зеленоватые, стальные с изморозью рыбки, пушистые мотыльки, спрятавшие в брюхе острейшие жала тройников, то миниатюрные, то массивные блесны.
— Американская, эта шведская и та тоже. Эта наша, — скупо объяснил Райнер и погрузился в сортировку.
После Петрозаводска поезд опустел и стало больше тишины и места, и стук колес стал монотонней, покойней. Райнер убрал блесны и смотрел в потолок. Неизвестно, о чем он мог думать. Вообще все в нем было Диме непонятно. Вот он опять взял Эразма и стал листать небрежно. Читал он это раньше?
«Читал или слыхал?» — подумал Райнер. Нет, не читал, но кто-то когда-то говорил об этой книге что-то умное и едкое. Все это давно не имело значения — умное и едкое. Он прочел вслух:
— «Не лучше ли всего живется той породе людей, которые слывут шутами, дураками, тупицами…» Верно! — сказал Райнер. — «Говоря короче, не тяготят их тысячи забот, которыми полна наша жизнь». Или вот: «В глупости женщины — высшее блаженство мужчины». Верно?
Дима встрепенулся, но это Райнер спрашивал не у него.
— «Недаром Платон колебался, к какому разряду живых существ подобает отнести женщину — разумных или неразумных». — Райнер прочел это тоже вслух, а потом листал все медленнее, неохотнее, закрыл, взглянул на Диму. — Ты филолог?
— Нет, историк, то есть буду им, если…
— Историк? История не наука. Кто сильнее, тот и прав. Взять верх, заставить жить по-своему. Вот меня этот тип не заставил, а тебя заставил.
— Как?
— Так. Ты же пил с ним.
Дима долго искал ответа, но от обиды не мог найти ничего умного. Райнер смотрел в потолок, лежа на спине. Он был недоволен собой: зачем он говорил с этим студентом? Правда, надоело молчать, и с Риммой молчишь и с женой, надо же все-таки говорить что-то, если больше нечего делать и едешь в поезде.
— Надо взять то, что тебе нужно. Вот и вся история, — сказал он. — Но люди не знают, что им нужно.
— А вы? — сердито спросил Дима.
— А я — знаю.
Больше Райнер ничего не сказал до самого вечера. Он лежал и ждал вечера, чтобы смотреть в закат; он знал, какие здесь закаты. Он отдыхал молча и в себе самом от всех слов, которые сказал сегодня, вчера, позавчера. И от тех, которые он слушал почти два месяца с того дня как вернулся с Памира. Их были сотни тысяч, и почти все они, кроме конкретных названий, ничего не выражали. «Милый!» — говорила Римма. «Великолепно!» — говорил редактор фотоальбома.
«Только определители растений, птиц, животных чего-то стоят. Семейство беличьих. Род белки. Белка обыкновенная. Белка персидская. Бурундук. Чем отличается полевка Миддендорфа от монгольской полевки? Не помню, но это мне сейчас ни к чему». И он выбросил из головы полевок вместе с Эразмом Роттердамским, потому что незаметно наступило время заката.
Прошел час и два, но закат не угасал. За темнеющими низинами моховых болот, за обугленными рогами сушин горело холодно и неустанно малиново-оранжевое зарево; прозрачная зелень расчесанных ветром облаков плавилась и не расплавлялась на этом северном огне.
Дима забыл обиду и все смотрел, смотрел туда, куда бежал и не мог проникнуть их одинокий поезд, и не спрашивал больше: «Это Север?» Потому что и так все было ясно. Лицо Райнера, подсвеченное закатом, было спокойно, он тоже не моргая смотрел на северо-запад. Когда кто-то приоткрыл дверь купе, он не повернул голову, он не слышал, как что-то спросили, как что-то ответили. Эти закаты всегда вызывали в нем какое-то воспоминание, точно отголосок давней и смертельной болезни, опасной, но прекрасной, о которой невозможно ничего сказать словами, но которая была, а может быть, и есть. У нее было женское имя, наивное и печальное, как в старинных рыцарских романах. Кто поймет это?

Исторический роман Н. Плотникова переносит читателей в далекий XVI век, показывает столкновение двух выдающихся личностей — царя-самодержца Ивана IV Грозного и идеолога боярской оппозиции, бывшего друга царя Андрея Курбского.Издание дополнено биографической статьей, комментариями.

В сборник московского писателя Николая Плотникова входят повести и рассказы, написанные им в разные годы. В центре внимания автора — непростая личная судьба совершенно разных людей, их военная юность и послевоенные поиски смысла бытия. Наделяя каждого из героев яркой индивидуальностью, автор сумел воссоздать обобщенный внутренний портрет нашего современника.

Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.

В романе Сэмми Гронеманна (1875–1952) «Хаос», впервые изданном в 1920 году, представлена широкая панорама жизни как местечковых евреев России, так и различных еврейских слоев Германии. Пронизанный лиризмом, тонкой иронией и гротеском, роман во многом является провидческим. Проза Гронеманна прекрасна. Она просто мастерски передает трагедию еврейского народа в образе главного героя романа.Süddeutsche Zeitung Почти невозможно себе представить, как все выглядело тогда, еще до Холокоста, как протекали будни иудеев из России, заселивших городские трущобы, и мешумедов, дорвавшихся до престижных кварталов Тиргартена.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
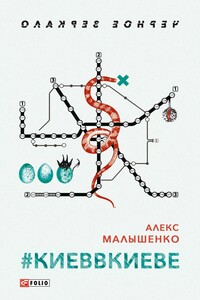
Считается, что первыми киевскими стартаперами были Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь. Они запустили тестовую версию города, позже назвав его в честь старшего из них. Но существует альтернативная версия, где идеологом проекта выступил святой Андрей. Он пришёл на одну из киевских гор, поставил там крест и заповедал сотворить на этом месте что-то великое. Так и случилось: сегодня в честь Андрея назвали целый теплоход, где можно отгулять свадьбу, и упомянули в знаменитой песне.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.