Марина - [9]
— Напишу, сразу напишу. Всем напишу. Тебе, Петуниха. Тебе, Павлюниха. Тебе, Колбасиха. Тебе, дядька Колбас. И деду Борьке, и Захару с Захарихой…
Семеновна неловко поправляет красивое новое зеленое пальто и городскую шапочку. Прикладывается по очереди ко всем щекам мокрым круглым ртом.
— Прощай, Анна, — сочувственно, тихо говорят бабы. Дед Клок трогает лошадь.
— Не забывай, Семеновна! Как же далеко они едут! Все дальше и дальше, незнакомей и незнакомей.
Эта песня так хорошо ложится на дальнюю, медленную дорогу.
Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне.
Семеновна поет эту песню во все горло. Ее заглушает дребезжащий постук телеги.
Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне.
На станции поезд стоит три минуты. Он скоро придет, а потом сразу. же тронется. Без гудков, без сигналов. И Петька в белой рубахе помчится следом. Дребезжанье его старого, огромного велосипеда потонет в шуме поезда. Он будет что–то кричать, захлебываясь ветром и словами. С одичалым одиноким лицом. А потом отстанет, потому что колеса его велосипеда намного меньше колес поезда. И никогда больше не уткнуться в знакомую грязную куртку с таким родным запахом бензина.
Мелькнут у коновязи дед Клок со спадающими ватными портками, бабка Домаша в белом платочке. Где–то там совсем далеко, как на картинке, проплывет мимо Польшино. И в табачной духоте общего вагона непонятными словами заплачет шестилетняя девочка:
Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне.
Часть II. ОХТИНСКИЙ МОСТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Наверное, кто–нибудь другой справился бы с этим делом гораздо быстрее, чем я.
А все потому, что у меня лицо такое. Увидев мое лицо в окошечке кассы, кассирши заставляют окошечко счётами и говорят:
— А ты можешь и подождать… — И уходят, как они выражаются, «на минуточку».
Взглянув мне в лицо, официантки говорят, что свободных мест у них нет, а шоферы никогда не останавливают такси, если я стою на дороге с поднятой рукой. Ну и, конечно, все они обращаются ко мне на «ты».
И вот теперь, оформляясь на работу, я часами жду разных начальников и инструкторов, а они, пробегая мимо, кидают:
— Подожди минутку, я сейчас. — И тут же забывают обо мне, а я сижу тихо и боюсь напомнить.
Я думала, что у меня спросят биографию, даже начало придумала, чтоб это было смешно:
«…Говорят, что я родилась в сорок пятом году. Утверждают, что в городе Ленинграде…» Мне показалось это необыкновенно остроумным, но дальше что–то не пошло.
Остроумие не вязалось с моей сутулой фигурой, с моими круглыми очками в черной оправе, с моим тихим и глухим голосом. Вернее, голос у меня мог быть и не тихим, но он все равно не был рассчитан на остроумие в общественных местах.
Мне было восемнадцать лет, и меня еще никто не целовал.
Я носила мальчишескую прическу с уродливой челкой до бровей, искажающей лицо. Зато челка скрывала детские прыщики, которых я стыдилась больше всего на свете. Теперь бы мне тогдашние заботы!
Поступать в институт я не стала. Во–первых, потому, что не знала точно, чего я хочу. А во–вторых, нас, родившихся в сорок пятом, было слишком много — в институтах сумасшедшие конкурсы. А я никогда не любила конкурсов, экзаменов и спортивных соревнований, Я совсем неплохо училась в году, но на экзаменах меня нападал столбняк. Школьные учителя это знали и щадили меня, но не они принимали экзамены в институтах.
Вот так я и попала на завод. И думала, что там у меня спросят биографию и вообще будут спрашивать. Хоть что–нибудь. Обо мне. О семье. О школе. А у меня ничего не спросили, кроме того, что было написано в паспорте. Это было мое первое разочарование.
Помню только, что в нескольких местах спросили:
— Мальчик, а ты совершеннолетний?
Это потому, что у меня была шапка–ушанка. Наконец какая–то задымленная комнатушка начальника пожарной охраны — еще один инструктаж, и…
— Новенькая? — сердито спросил меня серьезный паренек в фетровой шляпе с отрезанными полями, когда я вырвалась оттуда уже со всеми положенными подписями.
— Да.
— В технике безопасности была?
— Была где–то…
— Я спрашиваю конкретно.
— Нет, наверно…
— Пошли.
Он шагал впереди меня огромными шагами и не оборачивался.
Мы шли по скользкому металлическому полу цехов, по асфальту двора, взбирались по каким–то лестницам, опускались на лифтах и даже прокатились на мостовом кране.
Завод был совсем не то, что обычно показывают в кино. В жизни это больше потрясает: гудит, гремит, трясется все вокруг, снуют желтенькие яркие автокары — зевать не приходится.
И потом — это был м о й завод, и, чувствуя свою к нему причастность, я наполнялась таким ликованием и восторгом, что даже перестала остерегаться автокаров, о чем мне в не совсем приличных выражениях напомнили чумазые автокарщики.
Я вернулась с неба на землю, начала пристально вглядываться в здания гудящих цехов, в перекрытия, их соединяющие, в огромные башенные краны. Неужели когда–нибудь я буду разбираться во всех этих лабиринтах, знать, где что находится, неужели когда–нибудь перестану бояться передвигаться здесь без провожатых, шарахаться от вспышек электросварки? Это существо — завод — мне нравилось.

Прозябающей в нищете писательнице Евгении Горчаковой наконец улыбнулась удача – ей предложили работу гувернантки в семье богатого книгоиздателя. Она не только присматривает за бесенком «поколения „пепси“», но и становится полноправным членом семьи. И поэтому, когда жену издателя убивают, Евгения берет бразды расследования в свои руки. Чисто женская интуиция и писательский нюх подсказывают ей, что корни преступления таятся в загадочном прошлом…
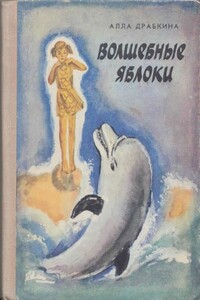
Рассказы и повесть о детях, о серьезных нравственных проблемах, которые им приходится решать: уважают ли тебя в классе и почему; может ли человек жить вне коллектива; ложь — это зло или невинная фантазия?

Повесть «Наш знакомый герой» на основе детективного сюжета позволяет писательнице вести разговор о таланте и бездарности в литературе, о связи писателя с жизнью. В повести «Год жареного петуха» речь идет о судьбах людей, которым «за тридцать». Писательница ратует за духовную высоту людских отношений, борется с проявлениями мещанской психологии.
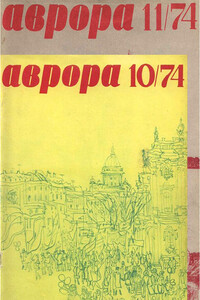
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «Приключения лесной ведьмочки Шиши» — результат социального проекта газеты «Вечерняя Москва», издательства АСТ и компании «Книга по требованию». Сказку написала сибирячка (г. Новокузнецк) Тамара Черемнова — инвалид детства с тяжелой формой ДЦП: парализованы руки и ноги, сильно нарушена координация движений, затруднена речь. И при этом светлый ум, умение радоваться жизни и доброе отношение к людям. Тамара не захотела мириться с жалкой участью пассивной инвалидки-колясочницы — и начала писать рассказы, очерки, сказки, сразу проявив свой яркий литературный талант.
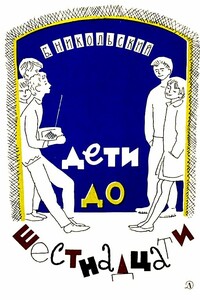
Герои этой повести - обыкновенные городские ребята По вечерам они собираются во дворе, слушают «Спидолу», спорят о футболе и боксе. Иногда все вместе отправляются в кино или на стадион. Короче говоря, на первый взгляд кажется, что жизнь их идет без особенных происшествий. Но ребята взрослеют и все чаще задумываются над жизненными вопросами, все внимательнее присматриваются к жизни взрослых. И отношения их с родителями становятся более сложными, а порой и нелегкими… Художник Леонтий Филиппович Селизаров.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть о египетском поэте и борце за свободу и независимость своей родины — Абд ар-Рахмаие аль-Хамиси.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


