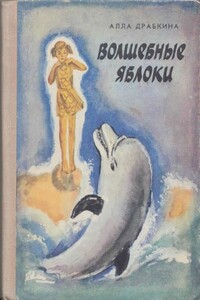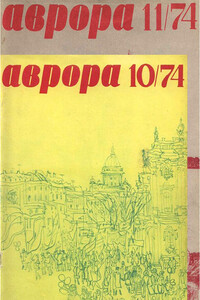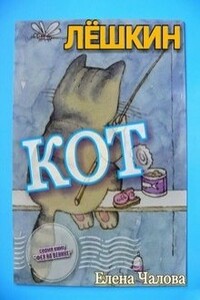Она решила уйти из школы, но без родителей ей не отдавали документы. Ее учительница пришла к нам домой и нарвалась на отца. Вечером отец устроил над Алькой семейный суд.
Алька кинулась ко мне, но я, в силу моих тогдашних Убеждений, стала уговаривать ее пожалеть бедного мальчика. Мои убеждения всегда очень действовали на Альку. Она поплакала и согласилась: вернулась в школу.
Бедный мальчик почувствовал свою силу и, улучив момент, полез к ней целоваться.
Она украла в химическом кабинете какую–то дрянь, пришла домой и отравилась.
Я помню Алькино выздоровление — она ходила по комнате бледная и заискивающе улыбалась всем: она обвиняла только себя. Это единственный человек из всех, кого я знаю, который всегда обвинял себя.
А я не знала, что ей говорить, я только обнимала ее и боялась, что она всегда будет помнить о том, как я предала ее. Но на своем она настояла — ушла на завод, а училась в вечерней школе.
Мне Алька все прощала, ничего худого не помнила. Она по–прежнему слушала меня развесив уши и поэтому вправду походила на мою младшую сестру, хотя по существу это она была старшей, потому что она с самого детства была как–то тверже и порядочней меня.
Мама всегда умилялась тем, что я не умела врать. Она всегда вспоминала, что если в детстве я таскала из буфета варенье, то забывала либо закрыть банку, либо вымыть руки и лицо, чтобы никто не заметил.
— Она если и соврет — проговорится, — говорила мама. — Это же святая простота! Это не то, что Алька! Та молчит, как пенек!
Мама забывала, что я, хоть и не умела врать, но пыталась. И варенье таскала.
А Алька, наверное, ни разу в жизни и не пробовала стащить что–нибудь или соврать.
И я знала это. И с самого детства чувствовала, что мне нужна Алька, как каждому слабому и поэтому не очень добросовестному человеку нужен кто–то сильный и честный.
С шестнадцати лет нам стали давать деньги. По пять рублей в месяц на мелкие расходы. Я тратила эти пять рублей на всякие пустяки, потом тратила и Алькины, потому что она умоляла их взять и говорила, что они ей совсем не нужны. И я малодушно брала.
Нам шили новые платья. Я снашивала свое, а потом приканчивала Алькино — она ходила в одном и том же стареньком.
Но все–таки мама говорила, что я «добрая растяпа», а Алька «себе на уме».
Отец в короткие периоды хорошего настроения больше общался со мной, чем с ней, потому что я начисто забывала все свои обиды, стоило только ему благожелательно посмотреть на меня. У Альки же нежности не хватало на всех. Она любила меня, и этого ей было достаточно. В редкие минуты, когда у нее развязывался язык, она говорила мне:
— Ты добрая… Ты очень добрая, ты талантливая.., Я не знаю еще — в чем именно, но когда–нибудь это случится… А я глупая и злая… Если бы не было тебя, я бы всех сожрала, до чего я злая… Без тебя я не знаю, что мне нравится, а что нет… Без тебя я даже не знаю, какие книги читать…
После этого я некоторое время верила, что я действительно хорошая и что Алька права в том, что любит меня. Я принимала это как должное.
Я привыкла к Алькиной нежности и ждала этого от всех, я почему–то была уверена, что из–за моей слабости и беззащитности все на свете должны меня опекать. В школе — учителя. В семье — мама и Алька. Стоило мне попасть на завод, как там объявилась деятельная Лиля, которая тоже увидела во мне доброе и слабое существо и, как умела, взялась направлять меня.
Я действительно не была злой. Меня действительно одолевали благие порывы, но все–таки я больше разбрасывалась, больше швыряла на ветер, чем отдавала. Благожелательные люди, окружавшие меня, прощали мне это, и мне казалось, что так будет всегда.
Так, собственно, и закончился последний год моего затянувшегося детства.
— У вас необыкновенно красивый голос…
— У вас тоже.
— Может быть, вы все–таки скажете, как вас зовут?
— Я же говорила: Мельпомена..,
— Как это перевести?
— Смотря на какой язык…
— Раз уж вы знаете мой телефон — вам лучше знать и мой язык…
— Значит, итальянский…
— Почему вы так решили?
— Потому что о любви говорят на итальянском…
— Значит, берете быка за рога?
— За рога.
— Но почему все–таки о любви на итальянском?
— Читайте Ломоносова…
— Простите, я серый…
Эту забаву выдумала Кубышкина. Мы сидим на станции. Время рабочего дня давно кончилось, но, как всегда перед зарплатой, мы задерживаемся. Табуляторы заело, и работы пока нет. Надо ждать, пока починят и отпечатают сводки, которые нам надо сбалансировать. Перенести это на завтра нельзя — завтра будет другая срочная работа, а зарплата не должна опаздывать. И вот мы сидим и от нечего делать треплемся по телефону с незнакомыми людьми. Номера берем тут же, на станции в картотеках.
Телефон параллельный. В одну трубку говорю я, а в другую слушают все остальные, даже Труба, разинув от любопытства рот и пихая под локти всех остальных, чтобы ей дали хорошенько послушать.
— А может, нам лучше встретиться? — спрашивает он.
— Это можно.
— Где бы вы хотели?
— На Александровской колонне…
— Не шутите так. Я серый. Я не знаю, где это находится.
Человек, с которым я разговариваю, благодушно настроен. А может, ему скучно. По крайней мере, когда я уже хочу повесить трубку, он начинает сам заговаривать мне зубы. Те остроты, которые я заготовила на первый случай, давно исчерпаны. А он ждет, я в этом почему–то уверена, чтобы я стала говорить всерьез. Но всерьез нельзя — слишком много свидетелей, которые ждут чего–нибудь веселенького.