Маленькая фигурка моего отца - [70]
Однако отец, записывая на магнитофон все подряд, преследовал явно не те цели, в которых его подозревала бабушка. «Остановись, мгновение», — словно говорил он, не важно, так ли уж прекрасно было это мгновение или нет. Дожидаться прекрасных мгновений человеку, почти каждую неделю выхаркивавшему ошметки своей больной печени, было недосуг. И мгновение останавливалось, и его можно было воспроизводить сколько душе угодно, хотя и за счет тех мгновений будущего, что придется потратить на его воспроизведение.
Во времена его безумного увлечения узкопленочными фильмами, которое началось вскоре после его перехода в «АРБАЙТЕРЦАЙТУНГ», если мгновения, которые он хотел запечатлеть, оказывались не столь уж прекрасны, нам полагалось делать вид, что они именно таковы. Например, в Рождество: отец исчезал за дверью детской, звонил, мы отворяли, свечи горели, мы бросались в комнату. А он подстерегал нас под елкой, держа камеру наготове, в ожидании рождественской радости, которой надлежало максимально эффектно предстать на кинопленке. «Нет, что-то вы плохо радовались, возвращайтесь-ка в кухню, вбегайте в детскую еще раз и радуйтесь как следует…»
Но теперь, приближаясь к концу жизненного пути, отец совершенно перестал ценить красоту мгновения. А может быть, стал ценить ее по-другому, просто потому, что изменилось само понятие красоты. Все существующее прекрасно, поскольку оно существует. Красота мгновения отныне заключалась для отца в том, что он еще мог его пережить.
— Как схватки? — спросил я у Сони, и она ответила, что теперь примерно каждые пять минут.
— Может быть, все-таки пора вызвать «скорую»? — предложил я и стал одеваться.
Соня тоже оделась и сунула в дорожную сумку какие-то баночки и флакончики с кремами и лосьонами.
— Мы сейчас подъедем, откройте дверь в парадной, — сказал санитар по телефону.
Потом мы сидели в «скорой», потом санитар записывал наши данные, потом мы оказались в больнице Франца-Иосифа. В этой же больнице недавно лежал отец, и нынешняя сцена разительно напомнила прежнюю, когда я привез его в больницу. Мы поднялись на лифте и остановились у закрытой двери из матового стекла. «Попрощайтесь с женой, — велел санитар, — в родильную палату вас не пустят».
Оставив Соню, я пошел по больничному саду к выходу. Было без четверти пять, на деревьях подремывали вороны. В небе висел месяц на ущербе, я поежился от холода и застегнул воротник пальто. Придя домой, я разогрел суп, выпил стакан пива и перенес в комнату пишущую машинку. Потом сел, заправил в валик чистый лист и стал писать.
Какие же ценности передал мне отец, несмотря ни на что: идею свободы, которую не сумел выбить из меня даже тогда, когда сам от нее отрекся.
Какие же ценности хотел бы передать я своему будущему ребенку: идею свободы, не совсем такую, но похожую.
Более гармоничную. Может быть, не лишенную внутренних противоречий, но такую, отречься от которой нельзя.
— Знаешь, — сказал отец, когда мы снова ехали в больницу, — всегда существует выбор. Либо они меня оставят, либо отпустят. Если они меня отпустят, очень хорошо, если оставят, то опять возникает выбор. Или меня выпишут, или больше не выпишут. В конце концов, всегда есть выбор. Либо меня ЗАБУДУТ, либо НЕ ЗАБУДУТ. Сам знаешь, у еврея всегда есть выбор.
— А еврей-то здесь причем? — удивился я.
— А почему бы и нет? — возразил отец.
И еще одна история, которую я должен добавить задним числом.
Однажды отец поехал на Западный вокзал снимать прибытие знаменитого клоуна Грока. Там уже столпилось множество фоторепортеров, но мой отец, ловкач каких поискать, протиснулся в первый ряд. И клоун, увидев его, подходит к нему, обнимает и целует в лоб.
— Не знаю, — произнес отец, откладывая рукопись, — до сих пор не могу взять в толк, зачем ты все это затеял. Ты пишешь, чтобы кого-то защитить и кого-то осудить, или как? Защитить себя и осудить меня, или наоборот?
— Эта книга, как и все книги на свете, в сущности — вызов смерти, а значит, пишется во имя жизни.
— Что ж, достойное объяснение, — сказал отец, — но как ты представляешь себе финал?
— Пока не знаю, — честно признаюсь я. — Закрой глаза и поведай мне: что ты видишь в темноте?
— Два запуска воздушного шара, — сообщает отец, — один с трагическим исходом, другой — с радостным, но вижу я их одновременно. Уж лучше я их разделю и сначала расскажу о трагическом, чтобы история заканчивалась на мажорной ноте.
— Давай, — соглашаюсь я и включаю магнитофон, — еще осталось немного места на пленке.
— Трагедия, случившаяся с воздушным шаром, — произносит голос моего отца на пленке, — это в сущности история моего несостоявшегося полета. Тогда, лет пять тому назад, я должен был подняться вместе с командой аэронавтов на воздушном шаре, который запускали на территории Венской международной садовой выставки, недалеко от Дунайской башни. Вот, значит, сажусь я в машину, — и так уже опаздываю, — и еду, но на въезде в Дунайский парк меня останавливает полиция. Поезжайте в объезд, ведутся дорожные работы и так далее. Начинаю спорить, доказываю, что я, мол, репортер газеты «АРБАЙТЕРЦАЙТУНГ» и должен вовремя быть на борту, — все без толку, меня не слушают. И вот значит, кляну я полицию на чем свет стоит, несусь в объезд Дунайского парка, с трудом нахожу на противоположной стороне куда поставить машину, и наконец, запыхавшись, прибегаю на стартовую площадку. А мне навстречу уже идет один из организаторов в форменной кепке, сочувственно пожимает плечами и говорит, что в корзину вместо меня только что сел мой коллега. «Конечно, было заявлено ваше участие, но, честно признаться, мы уже не рассчитывали, что вы появитесь. Может быть, в другой раз, а пока вашей газете придется довольствоваться снимками, так сказать, с точки зрения публики, снизу».

Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: однажды вдруг становятся серьезными-важными, перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию собственного детства. Первых и вторых объединяет одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они свою личную волшебную страну покинули. Новая автобиографическая книга французского писателя насыщена образами, мелодиями и запахами – да-да, запахами: загородного домика, летнего сада, старины – их все почти физически ощущаешь при чтении.
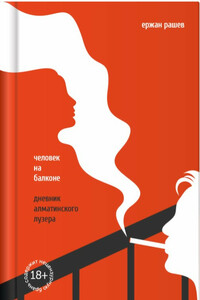
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.
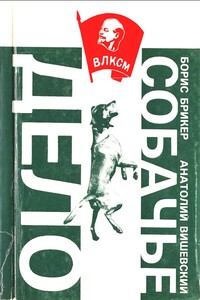
15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!
