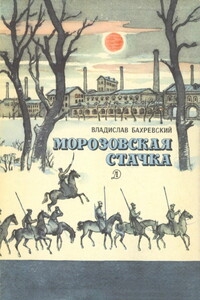Мы слушали рельсы — они гудели.
Мы были мальчишками, и нам хотелось открывать страны, нам хотелось увидеть взаправдашнее море.
Поезда летели мимо, и мы знали, что тоже полетим — вот придет срок и полетим, и мы ждали, когда около нашей деревни будет остановка.
И текли годы, как рельсы.
У меня осталась привычка детства слушать поезда.
Я растворяю окно и слушаю. Когда ночь и кругом тихо, хорошо слушать. Иногда хочется, как и в детстве, помчаться за поездами, но я только улыбаюсь, закуриваю и ложусь спать. И мне снится желтая улетающая птица в руке проводницы…
Чего-то не хватает. Все правильно и «размеренно», как в часах. Мои дни — общежитие, институт, читальный зал, иногда танцы. Но чего-то не хватает. Я писал:
«Зачем ты меня будоражишь? Мне надо работать. Да, я хожу по камням. Но, черт возьми, это в конце концов не очень плохо — прочно, меньше грязи. Я хочу вырваться к тебе — и вырвусь. Вот только проект… А соловья баснями не кормят».
Она отвечала:
«А как чисто в лесу после дождя. Ходишь, ходишь и подол весь в росе… Не сердись, но на земле удобней стоять, чем на камне…
Директор утром вызвал в кабинет. Говорил кругло, разводя аккуратными белыми руками, что Есенин вреден для школы (я читала ученикам стихи), что «балбесы» своими стрижеными головами не поймут «моих возвышенных стремлений». И голос его умягчался, становился пуховым, и вдруг он полез целоваться… Лешка, у него мокрые губы. Я думала, что убью его. Я разбила графин…»
«Вот и осень. Пушкинская, болдинская, золотая. Помнишь, у Фета?
Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот.
Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает.
Осень теплая, но «пожар восстает». У Фета хорошее настроение, осеннее, немного зябкое. Но я бегаю еще в кофточке. Ходили с ребятами в лес. Жгли костер, и пахло чем-то родным — берестой, грибами, родиной. И один «стриженый» чудесный мальчишка читал стихи Пушкина, но вовсе не про осень.
Люблю тебя, Петра творенье…
Это было необыкновенно — лицо в розовом огне костра, тишина глухого леса и Пушкин…
Игорь Петрович тоже был с нами, грустный, и смотрел все в огонь…»
Потом писем не было месяц. Я злился. Я не знал, что делать. Я написал ей про Наташку, маленькую, со вздернутыми косичками. Такую смешную Наташку, у которой только седой дедушка вахтер, а отца нет. Отец где-то. А матери совсем нет. Только дедушка. Наташка рассказывала мне, как она встретила отца в трамвае. Трамвай бежал по рельсам, качался и бежал. Наташка держала на палочке мороженое. Оно таяло.
— Девочка, ты испачкаешь меня мороженым.
Наташка подняла голову и увидела его, отца. Она узнала его по старому снимку, который дедушка прятал под матрацем. Отец держался за блестящую ручку кресла и ругался с кондуктором. Наташка наступила ему на ногу. Он сказал:
— Ты нехорошая девочка.
Наташка сказала:
— А у тебя в носу две дырки. — И все в трамвае засмеялись, а Наташка спрыгнула на ненужной остановке и чуть не заплакала. Руки у нее были липкими от растаявшего мороженого.
Письмо пришло.
«Я не знаю, как встречу тебя, взгляну на тебя. Останешься ли ты в моей памяти отзвуком прошлого или станешь настоящим.
Наташка, хорошая, милая Наташка. Я ее вижу — я вижу себя. Я тебе никогда, Лешка, не рассказывала о себе, да ты и не спрашивал — ты всегда был умным, правильным. У тебя все, наверняка, как в графике поездов, как в городских прямых улицах. Но там, в городе, я не думала об этом. Я не думала о жизни. Мне просто было весело жить, кружиться в вальсах, смотреть на тебя, любить, как в кино, возвышенно, бездумно — разыгрывать эту любовь перед залом, во что-то верить.
И невозможное возможно,
дорога дальняя легка,
когда мелькнет в дали дорожной
мгновенный взгляд из-под платка.
Это Блок. Мечтательный, раздумчивый Блок. Для меня все было «возможно». Все были хорошими без разбора.
И вот после чистых улиц я уехала на пароходе в четвертом классе (ты думал во втором) около вздрагивающих машин, семечек, мешков, в духоте, — но за бортом открывалась гладкая, близкая и светлая вода. Может быть, вот так, стоя на узкой палубе, открываешь вдруг что-то, задумываешься на большом просторе о своей маленькой жизни и понимаешь, что жил не так, удобно и ладно, не яростно, а по-гостиничному медленно — открываешь себя… А вода летит мимо, вздуваясь, опадая кипящими вулканчиками, вскидываясь белыми усами под сильными винтами.
До деревни, школы, я добралась на машине по грязи и когда спрыгнула в легких туфельках на тяжелую, разбитую дождями землю, когда увидала человека в плотном, мокром плаще, усталого, с крепкими скулами и услыхала: «Все в поле… Спасают хлеб…» — мне стало, Лешка, обидно, сама не знаю за что — за себя. Я села в передней на лавку и долго так зябла, чтоб хоть чем-то быть похожей на человека в мокром плаще…
Мы привыкли к высоким, громким словам. Мы сыплем ими, не вникая в их настоящую суть. Послушай, Лешка, ведь время делаем мы. Пусть это прописно. Пусть это тысячи раз говорено. Однако понимаешь это как-то разом и тогда становишься маленькой гирькой на больших весах.
Поэты пишут: Родина — это травинка, это солнце, земля. Они повторяются, открывая давно известную Америку. Но ощутить себя травинкой — уже другое дело.