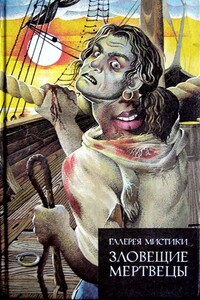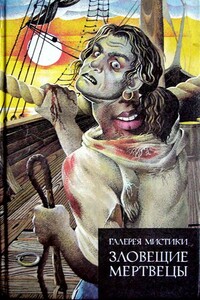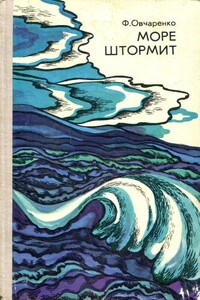К старой татарке я приходил пить молоко. Садилось солнце, и я бежал по краешку оврага. У баньки, заросшей крапивой, мычал теленок. Веревка от колышка ползла по траве. Здесь было совсем тихо. Из оврага поднималась легкая сырость, и деревья дышали. Побитые ступни отдыхали на холодной тропе, я задерживался у забора и ел вишню. Теленок глядел на меня, вытягивая морду. Тихонько звякал бубенчик. Я вздрагивал — из вишневого куста, не моргая, таращилась птица. Не улетала, сидела, как приговоренная. Последнюю горсть я подносил теленку, гладил его по шишковатой голове.
Накануне хозяйка сказала:
— Гостей ждет. — И прищелкнула языком. — Свадьба!
До меня не сразу дошло — бубенчик смолкнет, у бани станет пусто.
Я взбегал чуть наверх и открывал калитку. Собака бросалась навстречу с жаркой обнаженной пастью. Цепь гремела по натянутому проводу, клыки взмывали надо мной, застывали в воздухе и обрушивались вниз. Собака ложилась ничком на землю, обметая позади себя хвостом. Так она делала всякий раз, усталая, навсегда прикованная цепью. Злость стала ее уделом, шерсть дыбилась на загривке, глаза взблескивали, лай разрывал грудь, но чуть погодя она сникала, точно стыдилась, выжидательно взглядывая на меня. Я бросал ей кусок булки или пряник. Хозяйка уже стояла на крыльце в цветастом сарафане, повязанная ослепительным платком, с большой глиняной кружкой в руках.
— Эч, улым.[1]
Меня не надо было уговаривать. Молоко медленно проливалось по горлу свежим теплом, белые крупные капли падали на грудь, и я самым уголком глаза видел, какой сумасшедший у меня загар, хоть пиши по коже веточкой, едва касаясь, и получится, как мелом на черной доске. Трусы накрывали содранные коленки, кружка светилась дном, подле хозяйки ходили надутые куры, и в мире горело затухающее солнце. Я присаживался к собаке, не боясь ее оскала. Она словно перекатывала на — зубах горошины, голова ее, слепленная из светлого пепла, покоилась под моим коленом. Я знал, она — волк. Ее принесли из близкого леса слабым волчонком и выкормили молоком коровы. От волка у нее остался дикий, устремленный двумя клинками беспощадный взгляд. Она все время принюхивалась, озиралась, вздрагивала на открытом светящемся воздухе, потому, видно, что ветер приносил последождевой запах леса. А двор потихоньку закисал, засыпанный золой помета.

Еще на проводах качались ласточки. Прямо на поленницу низвергались кусты вишни. В саду о землю стучали яблоки.
Была середина августа на самом солнечном срезе. Черными вечерами по деревне гуляла гармошка, жалостливая, потерянная.
Я прощался с хозяйкой и брел в пионерский лагерь. Мать пристроила меня на сладкий август к лагерной врачихе — будто бы я родственник ее или еще, какая близкая душа. Они так обо мне и договорились.
— Может же у тебя быть на свете близкая душа? Да и кому, какое дело! Никого он не объест. Пусть бродит, где хочет, — купается, падает с деревьев, ничего с ним не случится. Насчет молока я договорилась и заплатила вперед. Не соскучитесь.
— А если он меня запрезирает?
— Он? Что ты, золотко. Я тебя научу: если у тебя оборвется пуговица, дай ему пришить. Он — моментом. Поладите, увидишь.
Я дал слово в жизни не пришивать пуговиц. Как только мать уехала, я перепробовал все лекарства, которые приятно пахли. И заболел. Два дня глядел в стену и обливался потом. Тетя Лиза, так звали врачиху, умирала и плакала вместо меня. Ночью я вылез в окно и стал валяться, как собака, по облитой луной траве. Голова горела, даже будто распухала, а кожа потрескивала.
А по деревне гуляла гармонь. Ночь обступала меня желтая, вперемешку с серебром и тушью. Я вдруг, не зная отчего, завыл, обмирая, вытянувшись на траве. Затявкала поблизости от бездомной трусости собачка. Ни один свет не падал из окон. Холодная роса жгла грудь. Я выл длинно, отчаянно, и болезнь уходила из меня.
Потом я согревался под одеялом. Прошлепал к кровати тети Лизы и стал глядеть на нее в упор. Она охнула спросонья и завскрикивала:
— Ой, кто здесь?! Ой, кто здесь! Нельзя… нельзя…
— Я выздоровел, — сказал я, присев на корточки. — Давай чего-нибудь есть будем. Слыхала, кто-то выл, а?
— Ничего не слыхала. Кто выл?
— Я.
Тетя Лиза окончательно проснулась, села, завернутая в одеяло.
— Брось мне халат. А чего придумаем поесть?
— Сейчас, — сказал я. — Чашки поставь на стол.
Я промелькнул через забор и улицу, упругий, как крепкий кулачок. Поначалу похватал с грядки лук. Его уже прижали к земле доской. Пошарил огурцов. Есть! С вишней я управился совсем быстро, она сама просыпалась в миску. Сверху я положил два красных яблока.
Деревня спала на робком свету, как в топленом молоке. Корочки ржаных крыш плавали в тумане. У меня везде были свои тропки и ходы. Я их не искал, они отыскивали меня сами. И в домик тети Лизы я всегда входил через окно, размыкая беззвучно раму.
— Ух ты! — качнулась она. Руками пробежала по груди. — С таким мужиком не пропадешь. Все это мы накрошим, и чего будет? Утренник, ага? Вот здесь садись и уплетай, сколько можешь. Картошку я с вечера сварила, как чуяла, выздоровеешь.
— Пуговица нигде не оборвалась? — спросил я.