Литературный архипелаг - [118]
Я вздрогнул и стал слушать с напряженным вниманием. Совсем как у Разумника Васильевича: спящие и бодрствующие. Неужели драматический смысл встречи с Шестовым сейчас разъяснится в неожиданной развязке?
«Да поймите же, — снова заговорил после минутного молчания мой молодой друг, — если бы я не считал богохульством выражаться по-церковному, я бы сказал, что Леон Шестов — мой Спаситель!»
«Что это значит?» — прервал я его, чтобы наскоро противопоставить этого мученика-одиночку жизнерадостным «сектантам» из Уругвая. «Очень просто. Мне случайно попала в руки книга неизвестного мне автора, Леона Шестова, с год тому назад. В это время я страшно себя ненавидел и страшно презирал людей вообще. Я раскрыл книгу наугад. Бросились в глаза имена Достоевского, Ницше. И произошло нечто совершенно небывалое. Фразы были простые, мысли тоже несложные, все как будто даже скучновато, и вдруг мне захотелось плакать. Стало бесконечно жаль себя и всех людей, и все мироздание, и я вдруг понял, что нельзя никого осуждать, даже самого себя, как бы я ни был развратен и виноват. Этого, конечно, не было в тексте, но как-то исходило из него, как заклинание между строками. Я слышал голос наяву, доносившийся со страниц книги: а ты проснись, а ты не спи, а ты и во сне бодрствуй!.. Я не мог удержаться и расплакался. С тех пор я с Шестовым. И я могу жить, и могу верить, и могу надеяться… Вот только любить я еще не могу. Но с Шестовым и этому научусь!»
Наши продолжительные беседы в последующие дни убедили меня, что дело в данном случае шло не о случайном совпадении «катарсиса» блуждающей души, подготовлявшегося, по-видимому, постепенно, с чтением французского перевода какого-то неизвестного русского автора, а что он сам, этот автор, призван был действовать «очистительно» на запутанный ум и запятнанную совесть. Невозможно отметить на полях книг Шестова красным карандашом, какие именно афоризмы или изречения его заряжены такой взрывчатой духовностью; не отчеркнуть ногтем ни одной такой фразы, ни одного эпитета! Но глаза при чтении его книг непроизвольно соскальзывают в узенькую белую полоску между строк, и там-то, сквозь строчки, и открывается прищуренному глазу просвет в иной мир. Поколение, предшествовавшее Шестову, не могло этого видеть; не видели этого ни его ровесники, ни шедшее за ними поколение, к которому принадлежал и я. Но в нас уже что-то было задето, и мы не могли пройти мимо него равнодушно. Когда около пятидесяти лет тому назад мне пришлось в Петрограде, ставшем под властью палача-опричника Петерса[773] на время снова «Пе-терс-бургом», писать для литературного сборника статью «О развитии и разложении в современном искусстве»[774], я причислял Шестова к глашатаям и проповедникам «разложения». Уже тогда, однако, я посмел выразить надежду, что разложение, дошедшее до крайности, обратится в свою противоположность и откроет просторы для нового изначального синтеза. Случайная встреча со случайным восприемником шестовской очистительной вести, перед грядою снежных вершин, отозвалась во мне внезапным возрождением собственной юношеской мечтательности.
«Значит, — думал я, сидя в аэроплане, уносившем меня из Швейцарии, — и это возможно. Шестов — явление безвременья и продукт разложения, но он же и предвестник, и предтеча того, что грядет за веком всечеловеческого кризиса. И идущие на смену нам поколения это чувствуют. Если бы вся его писательская деятельность имела лишь одно это последствие — исцеление одной-единственной души, ставшей невинной жертвой всемирного кризиса, — как не признать, что этим одним погашены все недочеты в произведениях и все житейские долги Льва Исааковича. Так, как он пришел с того света на помощь своему правнуку из Бельгии, так мог прийти на помощь лишь сын человеческий, облеченный призванием во Имя!»
Пока я жив, я продолжаю свои беседы с Львом Исааковичем. Содержание их, однако, не задевает того основного, на чем зиждется жизнь человеческая. В этом отношении господствует полное согласие. И если бы я был вызван на Страшный суд по делу Льва Шестова и его сочинений, все мои показания были бы в его пользу и против Князя Обвинителя. Не могу судить, пригодится ли мой набросок портрета с натуры для приобщения к «делу», но я писал его, не только подражая живописцам, но и как откровенное личное послание многолетнему спутнику.
Лондон 1968–1969 гг.
Приложение 1
Письма В.Я. Брюсову
1
19-IX-1910
Многоуважаемый Валерий Яковлевич!
Сегодня на квартире Вашей я узнал, что, прежде чем повидать Вас, мне следует письменно попросить у Вас разрешения на это. Я последние два года занимался стихотворными опытами, но за все время не мог согласиться с самим собой в их оценке. Между тем опыты мои сильно мешают мне в моей философской работе, которую я считаю успешной; я очень хотел бы услышать Ваше слово о моих стихах: оно, вероятно, решило бы участь этого моего увлечения, и я или обратил бы на него серьезное внимание, или же постарался бы отделаться от него. Если Вам не представляется невозможным найти для меня несколько минут, чтобы просмотреть несколько моих строф — то я буду Вам очень благодарен за разрешение к Вам явиться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
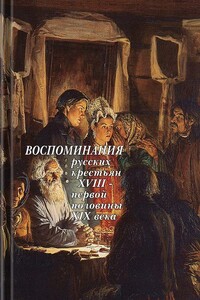
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.