Литературный архипелаг - [116]
«Об этом надо будет еще поговорить, — сказал Лев Исаакович, положив крепко руку мне на плечо, — сейчас я хочу только, чтобы до поры до времени шарада эта оставалась под замком. Пообещайте мне (он протянул мне руку, которую я крепко пожал), что никому не расскажете. После моей смерти пусть говорят и пишут, кому что угодно. Но ни за что не хочу прослыть сумасшедшим при жизни».
Это была моя последняя беседа с Шестовым с глазу на глаз. Не знаю, стала ли известной на каком-либо из языков, на которых по сей день читают Шестова и пишут о нем, тайна его литературного имени. Я сдержал слово и записываю это почти тридцать лет спустя после его кончины. В свое время мне многое хотелось проверить и лучше уяснить себе, но переворот в Германии и надвигавшаяся война создавали между мной и Шестовым непреодолимое расстояние. В середине 30-х годов я мельком видел Льва Исааковича, и лишь на людях. В одну из этих мимолетных встреч на бульваре Сен-Жермен он остановился, высокий, сутулый, иссохший, и так, стоя у края тротуара, наскоро передал мне содержание разговора своего с Эдмундом Гуссерлем, к которому он за годы до того специально заехал во Фрейбург. Возможно, что я одним своим видом напоминал ему его посещение Риккерта, предшественника Гуссерля на фрейбургской кафедре философии, когда затевалось немецко-русское сотрудничество в философии культуры под знаком античного «Логоса». Очевидно, эллипс жизненного круговращения Шестова действительно замыкался. Событиями в Германии он был взволнован до крайности и остановил меня на улице, точно привлекая к ответственности. «А я вам хочу сказать, — заговорил Шестов быстро-быстро, едва поздоровавшись, — что все это давно можно было предвидеть. Ваш Гейдельберг с его царем-бочкой или Фрейбург, откуда я к вам тогда заехал… Подумать только, какие шарады жизнь разрисовывает! Все вина — в одну бочку! И это называется „философия как строгая наука“! Я Гуссерлю эту его формулу никогда не прошу. Нарочно заехал, чтобы объясниться. Вот также, как мы с вами объяснились перед моей поездкой в Палестину, помните? Я Гуссерлю так просто и отрезал: „Что еврею здорово — немцу смерть“, переделал нашу старую русскую поговорку. „Строгая наука“! Да пусть она, философия, будет наукой милосердной, да хоть бы и не наукой вовсе, а искусством, песней, псалмом… Так он, Гуссерль, мне и договорить не дал:
— При чем тут евреи? — строго (у него все строго) спросил он меня, грозно приподняв брови, — я не еврей, а немец, так же как и вы не еврей, а русский.
Россия мемуарах
— Ну, знаете, — я очень взволновался, — херр профессор. Вы — не еврей?!
— О, — произнес он этак надменно, — что касается меня, то я уже давно вышел из еврейской общины[769].
А я ему в ответ: „Вас мих бетрифт, что меня касается, то как был русским евреем, так им и остался“. На этом разговор и оборвался. Я почувствовал, что теряю к нему уважение. Как говорил отец: „Себе дороже стоит“. Вы ведь правильно ответили Карсавину в наших „Верстах“: „Больше ли русский еврей — еврей или русский, зависит от того, с какой стороны смотреть…“ Ну, прощайте, однако. Я тороплюсь. Это хорошо, что нам удастся как-то заключить хотя бы одну нашу беседу. Сколько лет она у нас тянется?»
«Двадцать пять».
«Вот видите». Он покачал головой и крупными шагами направился к спуску в станцию метро.
Эту многолетнюю беседу с Шестовым я действительно почти закончил, но ряд других подобных диалогов тянется и по сей день, перекидываясь иногда и в ночные сны. Дарованное ему при рождении перо его подчинялось какому-то ему самому неведомому сверхличному руководству. С кем только он не сближался! Как пушкинское эхо, он внимал и ницшеанцам, «певшим за холмом» свои дифирамбы, и исконно российским «скифам», и ценителям гнутой венской мысли из школы Фрейда, и, наконец, евразийцам[770]. Но все эти споспешествовавшие его приятию и признанию течения пробивались (ведь не по щучьему же велению), и каждое проявлялось как бы в предназначенном согласии с достигнутой им лично стадией развития. Евразийство конца 20-х годов пришлось особенно кстати, когда он осознал в себе эллинско-иудейское двуединство. Тогда именно я написал в ответ Льву Платоновичу Карсавину, одному из столпов евразийства, что евреи естественные евразийцы: европейцы в Азии, а в Европе — азиаты. Иными словами, волны времени влекли Шестова, независимо от его воли, к каким-то предначертанным берегам. К каким? Если бы это можно было разгадать, мы смог ли бы, пожалуй, лучше разобраться в исторической карте нынешнего вселенского Эона. Две встречи в последние пятнадцать лет заставили меня еще раз проверить значение Льва Шестова. Одна с его последователем в Южной Америке, другая — в Швейцарии. Дадим же им заключительное слово.
В середине 1953 года я оказался в Монтевидео. В гостиницу ко мне неожиданно зашел давно переселившийся в столицу Уругвая соотечественник и, пристально вглядываясь в меня, огорошил вопросом: «Вы лично встречали Шестова?!» Неправильное ударение на первом слоге фамилии помешало мне сначала сообразить, о ком шла речь, но посетитель мой тут же пояснил: «Ну, Лев Шестов! Великий русско-еврейский мыслитель. Верно это? Вам суждено было знать его лично?!» Не могло больше оставаться сомнений, что речь шла о Льве Исааковиче и что передо мной его заброшенный в этакую дикую даль поклонник. Поклонник — как скоро оказалось — в самом буквальном смысле этого слова. Он не преклонялся перед покойным Шестовым, а просто поклонялся духу его так, как поклонялись древние греки античным божествам своим. Из книги Я. Бромберга «Россия и евреи»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
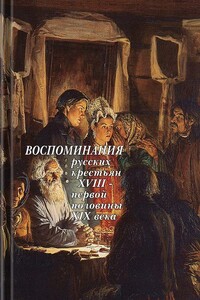
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.