Литературный архипелаг - [115]
«Ну, это положим… — прервал меня Лев Исаакович, и на коричневом от загара лице его появились багровые пятна, — всем было известно, что я…» — «Нет, нет, — не дал я ему договорить, — очень немногим. И чем больше ширилась слава Шестова, тем меньше становилось тех, для которых еврейское происхождение Льва Шестова не было секретом. Правда, эти посвященные были людьми большей частью недюжинными. Знал об этом Максим Горький, а от него Лев Толстой. Знал Бердяев, Брюсов, Иванов-Разумник, знали Мережковские, Ольга Форш, Алексей Ремизов. Но ведь они-то и разоблачали вас, простите, в собственном вашем сознании. Иудей! Иудей! — твердили они все как бы хором. Уважение к вам, а у многих из них и любовь от этого ничуть не убавлялись. А у кое-кого, у Бердяева, например, даже наоборот. Но для всех них присутствие „Черного человека“ (Шварцмана) в Льве Шестове имело решающее значение в оценке вашего, Лев Исаакович, мировоззрения. Вот только Александр Блок в разговоре со мною с глазу на глаз, огульно осуждая евреев в русской литературе, мимоходом задал мне недоброжелательный вопрос о вас лично в связи с вашим литературным псевдонимом:
— И почему они все стесняются и скрывают свое еврейство? Почему, например, Шестов, а не Шварцман?
А когда я в его же тоне спросил, почему же Горький, а не Пешков, или Белый, а не Бугаев, Блок покачал головой:
— Ну это совсем другое. Нечто похожее на Жорж Занд!»
Лев Исаакович в недоумении поднял оба плеча сразу, приподнял локти над ручками кресла и воскликнул с огорчением: «Ах, эти романтики, от их надзвездного эфира водкой пахнет. И притом какие нежности — Жорж Занд! Женщине можно, а еврею нельзя! Нет, так мы никогда не доедем до Палестины». — «Наоборот, именно так непременно и доедем! — сказал я твердо. — Дело не в Блоке и не в Бердяеве, а в том, что воображаемая парабола ваших странствий смыкается в замкнутый эллипс. Вы пустились в путь, чтобы не возвращаться, но путь ваш был предначертан, и вы чувствуете себя обманутым. После вашего путешествия в Иерусалим он станет вам столь же родным, как и Рим, и Афины. Эту нашу беседу я непременно хочу записать в назидание потомству, но опубликована она будет только после смерти, моей, разумеется. Потому-то я и разговариваю с вами так смело, даже, может быть, дерзко. В загробном мире все возрасты равнозначны. И я уверен, что вы на меня не сердитесь».
«Что вы, что вы!» — чуть ли не вскипел Лев Исаакович и, перегнувшись через чайный стол в мою сторону, схватил меня за плечо и сжал его с такой силой, что мне показалось, что что-то хрустнуло слегка.
Постучали в дверь. Горничная должна была доложить хозяйке, останется ли гость к обеду. «Найн, найн, — как-то засуетился, не совсем справляясь с немецким языком, Шестов, — вир балд цу-ендэ» (скоро, мол, кончаем). «Ихь аух шпетер комэ»[765]. Ему действительно хотелось выговориться до конца. Я замолчал.
«Поймите… Между прочим, я отказался за вас от обеда, чтобы все это не закончилось опять новым скетчем из театра миниатюр, хотя Надя Эйтингон могла бы дать вам и то, что вам можно есть. Ох уж эти мне специалисты по психоанализу! Помните, Смердяков у Достоевского говорит, что про неправду все написано[766]… Даже сестра моя всегда требовала от меня, чтобы я разанализировался, разоблачился. Наверное, и вам успела сказать. Они все от меня ждут, чтобы я совершил нечто сверхчеловеческое. Сестре, например, хочется, чтобы я превзошел самого Зигмунда Фрейда, чтобы я сманил Господа Бога на нашу грешную землю. А я вот ни за что не хотел кончить, как Ницше, т. е. провозгласить себя „распятым“ и засесть в доме для умалишенных[767]. Да! Я против преклонения перед общей меркой и здравым смыслом, но во имя чего-то более глубокого, широкого и высокого, во имя, как говорится, Истины с большой буквы. Если удастся дожить, поставлю все точки над i, и прежде всего над прописным „И“, иже есть от Иерусалима… Так значит, по-вашему, — ехать?» — «Конечно, ехать, во всяком случае, это вашему доброму имени не только не повредит, но со временем придаст ему больше весу. Лет десять тому назад я позволил себе сказать нечто подобное Акиму Львовичу Волынскому, настоящая фамилия которого, как вы знаете, Флексер[768]. (Кстати, ему-то больше, чем кому бы то ни было, Блок не мог простить „княжеского“ псевдонима.)».
«Разумеется, — лукаво усмехнувшись, обронил сквозь зубы Лев Исаакович, — очень полезно иметь плацкарту на место в поезде дальнего, очень дальнего следования. Но это, между прочим, не столько против „циника“ и криптоиудея Волынского, сколько за „юдофоба“ Блока. Это, конечно, тема особая, и, может быть, еще удастся как-нибудь отдать отчет и об этом. Сейчас же мне надо спуститься к обеду, а у меня еще остался интересный ребус для вас».
Я встал, встал и Лев Исаакович. «Скажите, сколько я ни бьюсь, я никак не могу найти объяснения для вашего псевдонима». — «А, — воскликнул, неожиданно подмигнув, Лев Исаакович, — и не пытайтесь. Еще никому не удалось. А это — суффикс… С примесью каббалы… Знаете, юнош-еств-о, излиш-еств-о, монаш-еств-о, патриарш-еств-о, торгаш-еств-о и т. д. Представьте себе, что я выдумал это, когда еще был в гимназии. Как все тогда, я ненавидел „торгашество“ (отец, знаете, был крупный торговец — торгаш). Если стану писателем, а я непременно хотел прославиться как писатель, я отделаюсь, решил я, от отцовской фамилии и оставлю в своем псевдониме одну лишь начальную букву „Ш“. От отцовского же рода занятий отрублю голову — „торг“, и останется одно свободное „шество“, сродни шествию; шествовать, к тому же, в общем-то, в обратном от отцовского направлении. И получите что? Шестов, если переставите две последние буквы!» Мы оба рассмеялись, как ученики младших классов, а я невольно подумал: «Неужели и теперь все это одни лишь словесная докука и балагурство? Ребусы на каламбурах?» «Действительно, каббалистика», — сказал я вслух. «Погодите, — остановил меня Шестов, — каббала в моем двусложном псевдониме открылась мне значительно позже. Намекну на прощание: мой псевдоним как трехцветный флаг. Три языка в одном слове Ш-ест-ов. „Ш“ — заглавная буква немецкого Шварцмана (черного человека). „Ест“ — est — есть. А „ов“ — кому как не вам лучше знать — древнееврейский патриарх, родоначальник. А шарада в целом: „Ш“, т. е. Шварцман Второй, есть Патриарх!» — «Позвольте, — вскочил я в изумлении, — так ведь это слово в слово то, что сестра ваша мне наговорила о вас. Вы вздумали занять место отца, чтобы стать родоначальником, а вся ваша литературная работа под знаменем Шестова раскрыла перед вами ваше истинное призвание. Не так ли? Лев Исаакович, так, значит, все они на самом деле правы, и Бердяев, и Разумник, и даже Блок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

В последние годы почти все публикации, посвященные Максиму Горькому, касаются политических аспектов его биографии. Некоторые решения, принятые писателем в последние годы его жизни: поддержка сталинской культурной политики или оправдание лагерей, которые он считал местом исправления для преступников, – радикальным образом повлияли на оценку его творчества. Для того чтобы понять причины неоднозначных решений, принятых писателем в конце жизни, необходимо еще раз рассмотреть его политическую биографию – от первых революционных кружков и участия в революции 1905 года до создания Каприйской школы.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
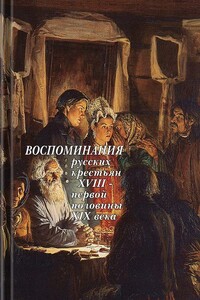
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.