Литературный архипелаг - [114]
«Лев Исаакович, — начал я, как только нам подали чай в его комнату на следующий день, — я чувствую себя виноватым, но не совсем…» — «Ах, бросьте, не стоит! Вижу, что недоразумение». — «Нет, Лев Исаакович, не совсем», — и я стал объясняться. Я объяснил ему, какую эволюцию я проделал в течение двадцати лет нашего знакомства и в моем отношении к философии вообще, и к мыслителю Льву Шестову в частности. Охваченный горячим желанием прорваться сквозь все преграды, стоящие между человеком и человеком, и выражая тем самым свое исключительное доверие к проницательности Льва Исааковича, я, не щадя ни себя, ни его, начертил перед ним сложную кривую моих оценок и переоценок, повернувшую резко вниз именно вчера, когда «царица» славянского хора поклонилась ему в пояс. Я пояснил, что именно она отождествилась в моем восприятии с «фригийской красоткой», высмеивающей поиски начал и концов, а барахтающимся в цистерне мудрецом оказался он сам — Лев Шестов, предпочитающий хоровой смех, посмешище на миру, всемирному безмолвию и остракизму. «Так вот и выходит, что вы, Лев Исаакович, смеетесь публично над самим собой, и мне захотелось, страстно захотелось, простите дерзновенную мысль, защитить Льва Шестова от самого себя!» Лев Шестов сразу присоединился ко мне или, точнее, сразу присоединил меня к себе. Покуда я «обличал» его, он с некоторым беспокойством присматривался ко мне, т. е. к ходу моей мысли. Но когда я поставил непритязательную, спокойную точку, он собрал свои длинные пальцы в две чаши весов и, поводя то одной, то другой рукой сверху вниз и снизу вверх, решительно нагнулся в мою сторону: «Простите, обо мне — это неважно, но вы делаете большую ошибку, очень большую ошибку… Слишком долго взвешиваете, добиваетесь наивысшей точности, а это как раз то, что никогда в точку не попадает. Надо как-то иначе, скажем, как древние пророки Израиля или, если хотите, как мой покойный отец. Люди как люди, со всеми своими человеческими слабостями, с обыденными интересами, материальными, профессиональными, — одним словом, примитивными, первоначальными, — и вдруг грянет слово, как гром, мысль сверкнет, как молния… Как у Пушкина: „Глаголом жечь сердца людей“[760]. А это ведь неважно: Плевицкая ли, Шаляпин, собственная ли моя сестра…»
Я насторожился и стал напряженно вслушиваться. Неужели, как уже не раз случалось, я услышу не только одну, но и другую сторону семейных недоразумений? Лев Исаакович заметил, покосился на меня из глубины своего кресла и продолжал: «По-вашему, жажда признания — чувство низменное, истина моя сама за себя постоит! А мой жизненный опыт, да и всеобщий, учит, что истина есть самое хрупкое создание на нашей планете. Того и гляди — разлетится на мелкие осколки. Значит, надо за нее заступаться, даже если это и унизительно… Да, в одном вы правы, писательство — промысел низкий, но когда оно служит истине, стоит и с толпой смешаться. А вы вот все гейдельбергской точности добиваетесь… Вычисление бесконечно малых… Категорический императив[761]… Чтобы ризы без единого пятнышка! Я ведь вас помню молодым студентом — каким были, таким и остались. Это у вас прирожденный ритуализм — кошерная пища: чтобы мясо было обескровлено и посолено и чтобы, не дай бог, не попала в мясной суп капля молока… Как хотите, но будь вы моим сыном (а ведь по возрасту могли бы быть!), я бы столкнул вас со стези праведной. Но что говорить! Теперь уж, вероятно, поздно, да и я сам уже не советник самому себе. Вот, к примеру, Палестина…»
Чуть ли не четыре десятилетия прошли с того дня «чашки чая» — чашки, так сказать, мира и понимания между нами, но и теперь, каждый раз, когда внимание мое обращается туда, в ту комнату с раскрытым окном в пустующий сад, я ясно вижу в зеркале оконного стекла округленные серо-синие глаза Льва Исааковича, с их устремленным на меня ласковым, приглядывающимся взглядом: «Да, Палестина… Вот посоветуйте, ехать или не ехать? Меня усиленно приглашают — лекционное турне и тому подобное. Гонорар совсем незначительный, да еще предупреждают, чтобы я запасся собственным костюмом для официальных приемов. Для меня просто лишний расход[762]. Пишет мне церемониймейстер английских властей. Пишет по-русски, но совсем как иностранец. Может быть, вы знаете, кто это? Фамилия — Гордон. Иошуа Гордон, так и подписывается»[763].
Я рассмеялся: «Как не знать?» И тут же дал Шестову послужной список палестинского «шефа протокола», отпрыска хасидской семьи из Ковно и моего сотоварища по Гейдельбергу, учившегося театральному искусству у знаменитого берлинского режиссера Макса Рейнгардта и ставшего впоследствии, во время войны 1914 года, директором еврейского театра в Нью-Йорке.
«Вот видите, — прервал меня заулыбавшийся Лев Исаакович, — опять театр. Без Плевицкой, очевидно, не обойдешься. Приятель ваш очень меня торопит и просит телеграфировать — да или нет. Опять лишний расход. Вы на моем месте, пожалуй, дали бы телеграмму, что за неимением смокинга не смогу приехать, а? А я вот не знаю».
Лицо его стало серьезным, озабоченным. Я воспользовался стечением обстоятельств, чтобы высказаться до конца. В неосознанном стремлении подвести общий итог всего, чем был и стал для меня в течение двадцати лет Шестов, я сжал свой «совет» в формулы, извлеченные из шестовской же алгебры. Наконец-то я как будто постиг ее и уже не сомневался, что и я, в свою очередь, не буду понят превратно. И мне, и Льву Исааковичу было не до шуток. «Палестина для вас, как и для меня, — начал я, слегка волнуясь, — Святая Земля». Он утвердительно кивнул головой. «Двадцать лет тому назад, — продолжал я, — вы чувствовали иначе. Тогда вам казалось, что, почитая домашних пенатов, вы заслужили право не считаться с назойливыми превратностями народной судьбы». Лев Исаакович никак не отозвался, лишь несколько брезгливо повел плечом. Я разошелся: «Вы добивались славы, сначала всероссийской, а затем и всемирной, под псевдонимом». — «Говорите, говорите», — торопил меня, приподняв плечи, Лев Исаакович. «Но псевдоним есть, простите, синоним, — вставил я торопясь, — синоним предательства собственного имени. Вы за ценой не стояли и прославились даже здесь в Германии, став твердою ногою около Гете и Шиллера в веймарском архиве имени Ницше

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
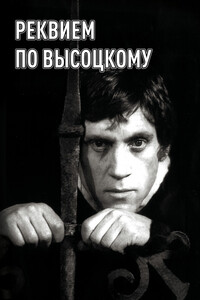
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
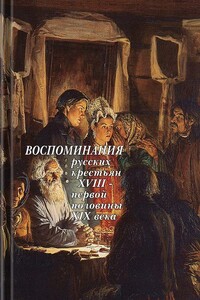
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.