Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный герой - [42]
У «Песни о себе» нет единой сюжетной нити, именно потому что основной сюжет несчетное число раз разыгрывается на микроуровне — как сладко мучительное выталкивание слов к новым, еще не осуществленным возможностям образования смысла. Основа контакта поэта и читателя — спонтанно образующийся ток эмоции, ритмической, дословесной, предшествующей пониманию и обеспечивающей его (она обозначается словами lull, hum, drift и подобными им). Действие слов, в этой логике, начинает переживаться задолго до — и почти независимо от — проявления их значений («My words itch at your ear till you understand them» — буквально: «Мои слова свербят в твоих ушах, добиваясь твоего понимания»). Этот парадокс читателю, кажется, труднее всего обжить. Всеми доступными ей проявлениями материальности — звучанием, графическим обликом, явной и неявной ритмичностью — поэтическая фраза намекает на то, что́ семантика слов выразить не в силах. По логике Уитмена стихотворение и не важно понимать — его даже важно не понимать, по крайней мере для начала. Вот авторская рекомендация читателю (сопровождающая первую, газетную публикацию поэмы «Из вечно качающейся колыбели»): «Смысл этой странной и горестной песни, как и смысл „Листьев травы“, глубоко запрятан и неопределим в кратких словах, воздействует же на читателя ощутимо и мощно, подобно музыке. Эту вещицу стоит прочесть не однажды — возможно, что лишь после многократных прочтений она „дойдет до вас, как будто выбираясь из тайного убежища“»[223].
Поэтическая речь у Уитмена нимало не ассоциируется с «лучшими словами в лучшем порядке» — она больше похожа на вездесущую грязь (dirt), а еще точнее — на гниль отбросов, или перегной (compost). Это среда, которая разом и сопротивляется смыслопроизводству, и обеспечивает его, делает его возможным. Привычная упорядоченность форм, «крупноблочная» логика смысла отвергаются и должны быть отвергнуты ради мельчайших структур опыта и языка, которые «в норме» даже не замечаются, но в ситуации восприятия «прозоподобной» поэтической речи вдруг становятся важными: именно их роль в «энергетике» смыслообразования оказывается решающей.
«Качество поэтического, — пишет Уитмен в предисловии к „Листьям травы“, — обнаруживает себя не в рифме, или единообразии, или абстрактных формулах вещей, ни также в меланхолических жалобах или благих поучениях»[224], а в способности прокладывать путь между телом и душой, под одним всегда подразумевая другое. Радикальная новизна поэтического выражения связывается с его «косвенностью» (suggestiveness, indirection — важные и часто используемые Уитменом понятия[225]), то есть качеством свободной текучести, сообщаемым высказыванию, и способностью любой его характеристики, в меру интенсивности любовного внимания к ней, служить «слабо различимым знаком» (faint clue). «Листья травы», предупреждает поэт «дорогого друга» — читателя, — «не мелодические рассказы или картины, которые можно листать на досуге» (melodious narratives, or pictures for you to con at leisure), они не есть даже «нечто сделанное мною для тебя… Я не выполнил работу и не могу это сделать. Работу должен сделать ты, чтобы осуществить по-настоящему то, что содержит в себе песня, — и если ты сделаешь это, обещаю, ты получишь награду за удовлетворение (return and satisfaction), как от никакой другой книги. Ибо из этой книги восстанешь и предстанешь перед самим собой Ты сам, каким ты себя еще не знаешь»[226].
Стих начинает авансом напоминать свободный танец или даже контактную импровизацию: чуткость внимания к микроскопическим стимулам, действующим помимо упорядоченных гармоний и дополнительно к семантике слов, становится для соучастников поэтической речи источником движения, смыслопорождения, трансформирующего инсайта.
«Я славлю себя и воспеваю себя…» Грубо нарушая конвенции «хорошего тона», эта откровенно нарциссистическая декларация привлекает наше внимание к исходному и важнейшему для Уитмена парадоксу: несовпадению лирического я с самим собой. Все дальнейшее действие «Песни» развертывается в пространстве между, условно говоря, Уолтером и Уолтом: между субъектом, который прославляет и воспевает себя, и им же как объектом прославления, воспевания. Промежуточное пространство, разделяющее (и соединяющее) эти два я, пронизано, заряжено направленным током энергии: Уолтер Уитмен творит Уолта Уитмена, а Уолт предъявляет читателю себя как творческий вызов, генератор разнообразных желаний, в том числе неожиданных, странных, даже страшных:
Нельзя не заметить, что спектр человеческих переживаний у Уитмена то и дело рассыпается на мельчайшие фрагменты — не подчиненные сюжетности, не вписанные в ту или иную историю и тем самым предрасположенные — и предполагаемые автором — к свободному обмену[227].
Нельзя не обратить внимания и на то, что щедрость акта дарения («Я украшаю себя, чтобы подарить себя первому, кто захочет взять меня») тут же довольно обескураживающим образом уподобляется удачливой спекуляции («Я играю наверняка, я трачу себя для больших барышей»). «Песня о себе» начинается с саморекламного, по сути, обещания предоставить адресату («тебе») некую сверхценность: «Побудь этот день и эту ночь со мною, и у тебя будет источник всех поэм, / Все блага земли и солнца станут твоими». Но выполнение обещания все откладывается, создавая и постепенно усиливая своего рода «suspense» — атмосферу упования, ожидания и, соответственно, нарастающего эмоционального подъема, вне которого «Песню» вообще нельзя воспринять адекватно. «Обещанное» и желанное нечто все время маячит на горизонте, проглядывает сквозь бесконечность перечисляемых предметов, сцен, фигур и таким образом все время напоминает о себе, но остается недоступным: «Мужчина или женщина, я мог бы сказать вам, как я люблю вас, но я не умею, / Я мог бы сказать, что во мне и что в вас, но я не умею»… Откровения Барда или «обычного простого человека» (simple separate person), принявшего на себя временно миссию Барда? — столь же велеречивы, сколь и бессвязны. И в финале поэма не ближе к заветной цели, пророчество не яснее, чем в самом начале: «Есть во мне что-то — не знаю что, но знаю: оно во мне. <…> Я не знаю его — оно безыменное — это слово, еще не сказанное».

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
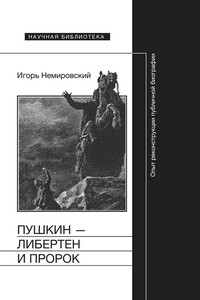
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.