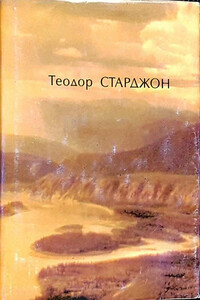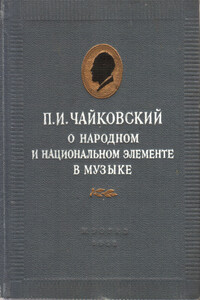Критические статьи - [31]
Мы сели вчетвером в крытую коляску, Лист против Гилле, майор против меня, сидевшего рядом с Гилле на передней скамейке. Гилле имел при себе партитуру «Krönungsmesse». В Johanneskirche, где происходила репетиция, были приготовлены места, ряды стульев, против органа (спиною к алтарю) для почетных гостей, администрации концертов, бюро Общества. Против них (лицом к алтарю и спиной к органу) сидела публика, которой — несмотря на то, что репетиции, собственно, не публичные — было немало. Когда мы вошли, вся публика встала перед Листом, произошло общее движение. Лист раскланялся, сел во втором ряду между майором и Лессманом (преподавателем музыки в шарлоттенбургской гимназии и редактором...) и автором романсов, имеющих быть исполненными в концерте...
Меня и Гилле Лист посадил в первый ряд перед собою, чтобы мы могли следить по партитуре (и на случай она была у него под руками). Первая пьеса была уже сыграна (симфония для органа с оркестром). Началась репетиция «Krönungsmesse». На хорах, у органа помещалась громадная масса оркестра и хора. Солистки были без шляп; хористки — в шляпах, большею частью соломенных. Лист слушал, по временам закрыв глаза и опустив голову; по временам чмокая губами и бормоча про себя замечания или перекидываясь ими с нами, комментируя разные частности вещи или исполнения. Когда дело дошло до «Graduale», Лист перегнулся ко мне, сказал: «В других мессах этой части не бывает, но в коронационной она обязательна». Или: «Эти
кварты —характерная черта венгерской музыки»[104].
Большинство же замечаний Листа отличались его обыкновенным добродушием и юмором. Только когда дело дошло до... он начал твердить: «Ce n’est pas ça!»[105], сделался серьезным, наконец не вытерпел, вскочил и поплелся сам на хоры. Он прихрамывал, так как незадолго перед этим свернул себе ногу и чувствовал еще порядочную боль. Опираясь на майора, старик, однако, бодро лупил вперед, и наконец седая голова его показалась у дирижерского пюпитра; он толковал с... и с музыкантами, заставил повторить неладно сыгранное место в... и когда виолончели и басы стали делать свое pizz. не вместе с аккордом, a >1/>8 позже, как написано у Листа, старик успокоился и поплелся назад. После «Krönungsmesse» должна была идти оратория капельмейстера из Гааги, Николаи, пресловутый «Bonifacius», недавно исполнявшийся в Кельне и составлявший антипатию Листа (как я уже говорил выше). Сначала острили насчет этого Bonifacius’a, и кто-то, чуть ли не Лессман, сказал, что это не Boni, a Malefacius[106]. Гилле, закадычный друг (с 1840 года) Листа, ярый и восторженный поклонник новой музыки, торопыга, горячка, по невоздержанности, бесцеремонности и резкости замечаний напоминающий В. В. Стасова, нагнулся ко мне и сказал: «Ну, вам предстоит теперь наслаждение! Это черт знает что за канитель! Всю душу вытянет! Теперь еще они, слава богу, выпускают дуэт один; я его слышать не мог равнодушно — тянется точь-в-точь ленточная глиста, когда ее выгоняют. И на кой дьявол бюро церемонится, соблюдает политику какую-то и допускает исполнение таких вещей. Нехорошо! Не надо! Пусть их ругаются, дуются — плевать! Не надо, и только! Что за церемонии, что за осмотрительность! В деле искусства надо прежде всего последовательность — нехорошо! — Не годится! Я всегда бранюсь за это с своими собратьями» (Гилле — член бюро).
Скоро все толки должны были умолкнуть. Сам автор «Bonifacius’a» подсел к Листу, у последнего появился клавираусцуг оратории в руках. Лист молчал или делал только легонькие замечания насчет исполнения, вроде того, что мол: «Триоли у скрипок и альтов не выходят... не слышно... может быть, когда будет больше публики, акустические условия будут другие, мы их и услышим» и т. п. Николаи был, видимо, не совсем доволен впечатлением... Гилле, не дослушав до конца, сунул мне в руку партитуру «Krönungsmesse», попросил передать Листу, что он должен был отлучиться в бюро, и удрал. Сильно подозреваю, что он просто не утерпел высидеть всю эту канитель, не имея даже возможности ввернуть крепкое словцо, так как позади него сидели автор оратории и Лист.
Когда мы воротились, был уже час обеда; стол был накрыт, столовая полна. Против прибора Листа место на столе было огорожено лавровою гирляндою и стоял большой букет цветов. Сели за стол. Обед прошел очень весело и оживленно; говорили, шутили, смеялись. Не обошлось, разумеется, без восторженных тостов в честь Листа и контртоста последнего в честь представителей бюро Общества и присутствовавших. После обеда Лист ушел к себе соснуть, что он делает постоянно после обеда, тем более что предстоял в 6>1/>2 концерт и еще 4 дня, вроде сегодняшнего. Вечером в концерте Лист сидел в первом ряду стульев, рядом с Gille и майором, а после с ученицей своей, Мартою Реммерт, высокой, кокетливой, немножко ломаной, хотя и недурной немочкой, белокурой, с маленькими усиками, высокой, стройной. Дамы, сидевшие против Листа на церковных скамьях (как я уже сказал, скамьи, укрепленные неподвижно, обращены спиною к органу, а стулья лицом)... На стульях кроме Листа сидели члены бюро и избранная часть Общества: артисты, композиторы, репортеры, сановники и проч. Хотя я и не член бюро, но меня посадили на первой скамейке возле майора Клейна, сидевшего рядом с Листом. Положение мое было самое выгодное для наблюдений. Публика и остальные обыкновенные члены сидели vis-à-vis с нами на скамейках, на расстоянии полуаршина. Мне было видно все, что происходило около Листа. Публика на первых скамейках, с полнейшей беззастенчивостью рассматривала Листа и все его [окружение], делала разные замечания, перешептывалась, следила за Листом, за каждым движением его, старалась вслушиваться в его слова. Когда Лист, увидав проходившую на свое место и поклонившуюся ему Реммерт, удержал ее и с обычною ласковой улыбкой посадил ее возле себя, после самого любезного приветствия, дамы, сидевшие перед самым носом Листа, покраснели от злости, вперили нагло злые глаза в счастливицу Реммерт и в продолжение всего концерта не переставали пересмеиваться и перешептываться на ее счет самым бесцеремонным образом, пожирая ее завистливыми глазами. Лист поминутно обменивался с нею словами с самым добродушным и любезным видом, что еще более злило наше vis-à-vis. Мне Реммерт сначала показалась пошловатою кокеткою, zipperlich-manicrlich, но впоследствии, когда я узнал ближе ее и о ней, это оказалось все только внешностью. Как пианистка — это первый сорт, по части энергии, силы, выразительности и выдержки. Когда я потом слышал исполнение ею «Danse macabre» (и позднее 1-ю часть сонаты Листа), я был изумлен этим противоречием между внешностью ломаной немецкой кисейной барышни и этим пианистом в юбке: ее большие, почти мужские руки играют совсем по-мужски; закрывши глаза, ни за что не скажешь, чтобы это играла женщина, а тем более барышня. Противоречие сказалось и в других отношениях—при такой наружности она оказалась девушкою крайне энергичной и в жизни. Находясь в крайней нужде, имея пьяницу и деспота отца, который тащил из дому все, что попало, довел семью до крайней нищеты, девушка эта сумела образовать себя настолько хорошо, что поступила лектрисой и гувернанткой в знатный дом, кажется, в Вене; занималась обучением своей сестры (или сестер) и сверх того сама выработала из себя первоклассную пианистку. В серии магдебургских концертов она должна была играть его «Danse macabre». Этим всем объясняется, следовательно, то милое предпочтение, которое ей оказывал Лист в Магдебурге перед многими другими — к великому озлоблению завистниц.
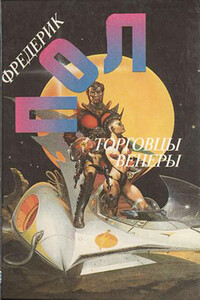
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.