Красная палата - [4]
Все недоброжелатели Аввакума падают на колени, опускается на колени и сам Аввакум. Марковна тоже опускается на колени.
Молния. Гром.
От удара молнии загорелась изба Аввакума. Из избы выбежала Прасковья. Она недоуменно смотрит на вылетающее из трубы пламя.
В ПРИТВОРЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА
Сбежавший в Москву Аввакум произведен в протопопы. Под духовным покровительством своего наставника Ивана Неронова приютился в Казанском соборе. Аввакум рад такому приюту, он подолгу беседует со своим духовным отцом, внимает каждому неторопливо сказанному слову.
В дверях притвора неожиданно появился Никон. Внешне он развязно-прост, но внутренне чутко-насторожен.
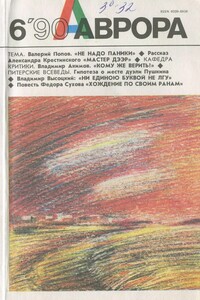
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.
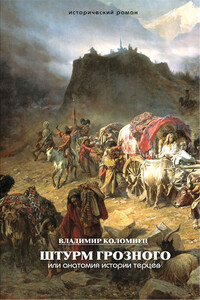
Новый остросюжетный исторический роман Владимира Коломийца посвящен ранней истории терцев – славянского населения Северного Кавказа. Через увлекательный сюжет автор рисует подлинную историю терского казачества, о которой немного известно широкой аудитории. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
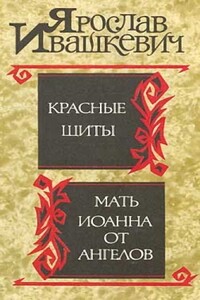
В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.

Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.
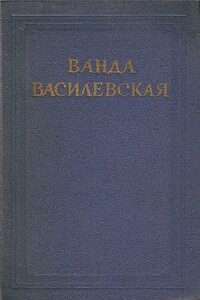
В 3-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли первые две книги трилогии «Песнь над водами». Роман «Пламя на болотах» рассказывает о жизни украинских крестьян Полесья в панской Польше в период между двумя мировыми войнами. Роман «Звезды в озере», начинающийся картинами развала польского государства в сентябре 1939 года, продолжает рассказ о судьбах о судьбах героев первого произведения трилогии.Содержание:Песнь над водами - Часть I. Пламя на болотах (роман). - Часть II. Звезды в озере (роман).

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.