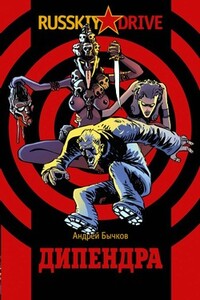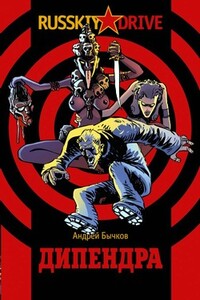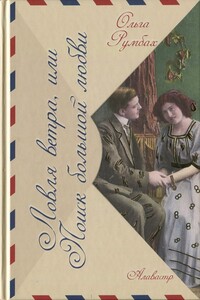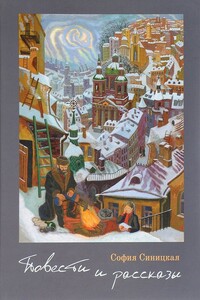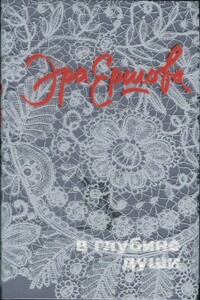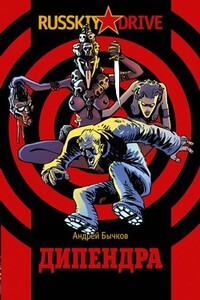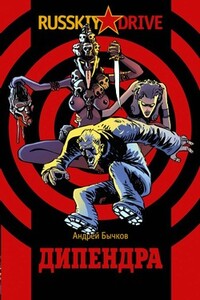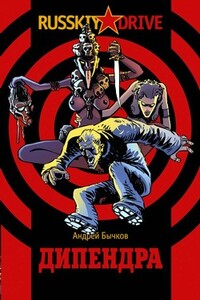Он вышел из леса и вернулся в дом Элоизы. Было жарко (был уже полдень), и солнце накалило дом. Элоиза любила жару, и крыша была покрыта жестью вместо черепицы, специальное устройство проводило тепло даже в нижние этажи. Лёва представил себе прокаленный железный короб автобуса, который будет протаскивать его через жару в Париж (он еще не знал о кондиционерах, ватерклозетах и телевизорах в двухэтажных, комфортабельных автобусах Запада), и решил принять холодный душ, а потом, быстро позавтракав и собрав вещи, еще немного прогуляться. Он долго и блаженно фыркал под струями, подставляя шумящему напору то спину, то живот, поднимая вверх то одну пятку, то другую, отдаваясь саднящему водяному ежу, ощущая себя кожей, радуясь здоровым ощущениям холода и чистоты, клубящимся в его теле. Наконец он почувствовал, что замерз, и выключил воду. Стал быстро и энергично растираться махровым полотенцем с красными и синими огурцами. Он оделся в чистое, белоснежные маечка и трусы, гарнитур, заботливо выстиранный мамой. Комнатка душа располагалась напротив комнатки Элоизы, и, проходя мимо, Лёва вдруг вспомнил странные слова матери о том, что никто никогда не заходил в спальню Элоизы, кроме нее самой. «Что может быть там?» Он осторожно, на цыпочках, оставляя босые следы, подкрался к двери. Пробило три четверти второго. «Еще два часа», – успокоил он себя. И нажал на позолоченную ручку.
Девушка сидела в кресле. Она затягивалась сигаретой. Синий дым. Усмешка, раздевающая до конца. Она как будто бы ждала Рубинштейна, она как будто не ошиблась. Ее коротенькая стрижка, длинный, с горбинкой, нос, странный какой-то взгляд, словно догадывается уже. О чем? О чем догадывается? О том, как будет хорошо, когда глаза будут закрыты и когда слепые картины ощущений, разгораясь и разгораясь… Лёва сглотнул. Плакат был в натуральную величину. «Marlboro» – мелко было написано на пачке, которую она держала в руках. «Silvia Ting Rock Band» – крупно и красно под ногами. Лёва вошел. Музыкальный центр с огромными колонками, фотографии каких-то панков на велосипедах, цепи, четырехрукий медный Будда, на гвозде под потолком корзиночка с цветами, на столике кальян, какая-то тахта под белым строгим покрывалом, совсем не вписывающимся в интерьер. «Доменик! – Рубинштейн вздрогнул. – Это же ее комната! А та?!» Он задрожал от возмущения. «Неужели старуха… И то – ее постель?! Гадина!! А я еще хотел душиться духами из флакончика… – Он злобно засмеялся. – Душиться – задушиться». Хотел плюнуть, но пол был чист. Задумавшись, он опустился на тахту. «Значит, отец был прав… – раскручивалась мысль. – И вся эта… та история… О господи!» Четырехрукий Будда медно улыбался. Слепые, обращенные вовнутрь глазницы. Лёва откинулся и, заложив под голову ладони, посмотрел в окно. Идеальное круглое облако проплывало над лесом. Он долго смотрел, как оно, едва меняя форму, исчезает. Вереницы воспоминаний, картины детства встали перед ним, как собирали вишни глазастые, как в ледяной лежал пещере, как пускал в мигающих ручьях кораблик из бумаги. Зачем? Зачем все это? Если это было так изгажено, если в детстве эта тетка просто дергала его за… Он не заметил, как закрыл глаза и задремал.
– Чтобы любить, – сказала Доменик.
– Чтобы любить? – переспросил.
– Да.
Сбросив легкую ткань, она наклонилась и присела над ним. Он изогнулся, желая поцеловать ее в шею.
– Погоди, – сказала она, прижимаясь щекой к его губам и пробираясь холодной лодыжкой в его междуножье.
– Это еще что такое? – засмеялся Рубинштейн, ощупывая ее мраморную коленку у себя на груди, и почти тотчас там, «внизу», почувствовал влажное обжигающее прикосновение ее лона, и уже ловя губами ее губы, чтобы остаться в поцелуе, настигая и настигая самый миг блаженства…
– ЛЕВ!!
Он в ужасе открыл глаза и ловко сел, ощущая на ляжке уже изверженное семя. Попытался прикрыть ладонью, но вытекало уже из-под трусов янтарно и божественно оно на белоснежное в цветочках покрывало. Элоиза вплывала боком, грозно задевая грудью за косяк двери, а за ней на цыпочках высокая и миловидная блондинка с вытянутым от любопытства личиком и сигаретой в пальцах, «Marlboro».