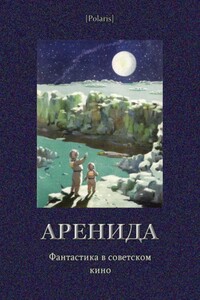Конец бабьего лета - [5]
— Ну?! Дальше что же? Договаривай. Чего замолчал?
— Вот и ну. А дальше то, что красота твоя, Маша, при тебе осталась. А по мне так еще краше ты стала. Неужто все забыла?
— Забыла. Все забыла.
— Так вспомни…
— И вспоминать нечего! Нет у меня памяти про нас с тобой, Иван. Далеко ушла та моя память. И лучше не трожь ее. Слышишь?! Не трожь! В ней и сгореть тебе недолго!
Дверь за ней захлопнулась. У Ивана злобно вздулись желваки.
Медленным взглядом обвел комнату, на стене висели грамоты Марии, разных лет фотографии.
Вот фотография молодых Марии и Ивана, вот Надя с мужем и сыном, Надя в школьной форме. Гришу принимают в пионеры, Гриша на комбайне. Праздник урожая. Портрет Марии с наградами, вручение награды, Мария с маленьким внуком на руках, счастливое лицо Марии.
Стена смотрела на Ивана его фамилией — Добреня.
Артемка Липский наяривал на гармошке марш.
— Ну, вояки! — весело выкрикнул он: — Самого Берестеня заставили отступиться!
Принаряженные доярки шумно суетились вокруг стола, выкладывая из принесенных корзинок провизию, комментируя последние события.
— Заслужили бабы и выпить и закусить! Стол заставляли праздничной закуской.
— Отступился бы.
— Дожидайся.
— Мария его к стенке прижала.
— Тише, разгалделись, — крикнул Артемка, — тосту надо сказать, тосту! Речу закатить! Или мне поручите?
— Сядь! — приказала Алена Липская. — Мария пусть скажет.
Мария поднялась. Сегодня по праву за ней слово. Надо сказать самое главное. Все ждали.
— Вспомнилось мне, — начала она тихо, — после войны выделили нам двенадцать коровенок. От колхоза нашего только и осталось, что одно название. Тряслись мы над ними с Любой и рассказать нельзя как. С этих коровенок и началась ферма. Всякое потом бывало. И кормить коров было нечем. И председатели менялись. А робили мы, бабы, робили. Наша она, ферма, трудом и потом приобретенная. Потому и держимся мы за нее. Новое дело начинаем, а для нас оно старое, привычное. Кто это сказал «списанные бабенки»?
— Клавка, Клавка сказала! — закричала Алена Липская.
— А Клавка-то где? — спохватилась Груша.
— Нет, не списанные мы бабы. На нас вся жизнь держится, — Мария говорила просто, сердечно. — А потому, давайте выпьем за нас, простых баб.
Клавка Микусева в свадебном платье и фате шла по деревенской улице под руку с Гришей. На нем — черный костюм. В петлице цветок. Клавдия шла гордо неся голову.
— Клава, — тихо говорил Гриша. — Не кончится это добром.
— Увидишь, при народе она и слова не скажет.
— Бабы, гляньте! — завопила Алена Липская. — Клавка фату надела!
Все бросились к окну. «Молодожены» шли прямо к дому Груши.
— Артистка! Ну, артистка, — стрекотала Алена. — Детям своим зады бы сидела подтирала! А она в фате разгуливает!
— Стихни ты! — прикрикнула Груша.
У Марии задрожали губы, она тихо охнула и выбежала из комнаты.
Иван сидел на колоде, вставлял в грабли новые зубья. Мария влетела во двор, увидела Ивана. Боль кольнула сердце, она задохнулась, вскрикнула:
— Божечки! Чего сидишь, как истукан! Сына… уводят…
Иван ничего не понял. Из-под повети вышел старик. Оперся о вилы.
— Гришу… Гришу Клавка окрутила. — У Марии ручьем потекли слезы.
Старик в сердцах сплюнул:
— Ремня бы ему, сопляку.
— Сядь. — Иван отложил грабли, взял Марию за руку. Она беспомощно опустилась на колоду. — Обмозговать надо.
— Что мозговать? Что? При всем народе! Срам какой, божечки! — Мария не могла успокоиться.
— А потому что распустился, — продолжал свое дед.
— Ладно тебе, — отмахнулся Иван.
То, что Мария в трудную минуту обращалась к нему за помощью, сочувствием, приободрило его. Значит — нужен.
— Делать что-то надо, — взмолилась Мария. — Может, тебя послушает?
Иван молчал. Вспомнил разговор с сыном на тракторе. Парень с умом, внимательный, мать любит. Его — нет, он это почувство вал сразу. Не простил и не простит из-за матери.
— Попробую, — сказал Иван.
— Может, Надю вызвать? — спросила Мария.
— Не помешает, — подумав, согласился Иван.
— И все потому, что безотцовщина, — буркнул старик и пошел в дом.
Груша прибирала комнату. Клавка плакала. Она сидела в торце стола, подперев руками голову. На стуле пышной горкой белела сброшенная фата.
— Ты на Марию не серчай, — спокойно говорила Груша, снуя по комнате. — Помнишь, как она тебя к нам на ферму привела? Мужик твой тебя бросил, а ты за веревку хваталась, детей чуть не осиротила. «Животина любого человека, как пить дать, отогреет». Как сказала Мария тогда, так и вышло. Так ведь?
— Та-ак, — сквозь слезы соглашалась Клава.
— Отогрелась, выходит, а теперь замуж бежишь? Ну, поплачь, поплачь, девка, ежели свекровь свою невестку вожжами не погоняет — порядка не жди Да и каждой девке на свадьбе положено повыть.
— Да какая свадьба?! Что это вы в самом деле, тетя? Опозорена я! Опозорена на всю деревню!
— Кто ж это тебя так опозорил?! Уж не Гришка ли наш, который, как драгоценность какую, вел тебя под ручку?! Да он из огня тебя вынет да собой прикроет, и деток твоих. А может, Мария, которая тебе такого мужа выкормила, вынянчила?! Ты говори, девка! Да не заговоривайся.
Господи, тетя Груня, что ж мне делать? Люблю я его больше жизни своей!
— Ну и слава богу, люби на здоровье!

Остросюжетные и занимательные повести известных белорусских писателей в какой-то мере дополняют одна другую в отображении драматических событий Великой Отечественной войны. Объединяют героев этих книг верность делу отцов, самоотверженность и настоящая дружба.СОДЕРЖАНИЕ:Алесь Осипенко — ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ. Повесть.Перевод с белорусского Лилии ТелякАлесь Шашков — ЛАНЬ — РЕКА ЛЕСНАЯ. Повесть.Авторизованный перевод с белорусского Владимира ЖиженкиХудожник: К. П. Шарангович.
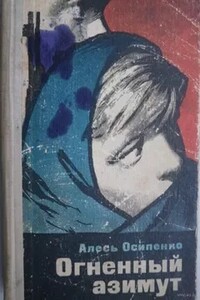
В центре романа "Огненный азимут" - судьба подпольной пятёрки в первые месяцы оккупации врагом территории Белоруссии.Оторванные войной от привычных мирных занятий, пять коммунистов остаются в тылу врага. Гитлеровцы обрушивают на подпольщиков ряд ударов. Но коммунисты выдерживают все испытания.В романе дана широкая картина жизни и борьбы белорусского народа в жестокие годы фашистской оккупации.

Синопсис и сценарий художественного фильма «Средство от человечества». Сценарий написан по неоконченному ещё роману «Физика мягкого тела», так что пользуйтесь моментом…За компьютерное преступление, которого не совершал, программист Дмитрий отбыл два года в колонии-поселении, где занимался промыслом недавно обнаруженных уникальных драгоценных камней — розовых шариков, именуемых среди заключенных «розовой мечтой». Возвращаясь домой через Москву, он узнаёт, что новые дорогие украшения на основе «розовой мечты» представляют неожиданную серьёзную опасность, и не только для своих владельцев.Многие не знают, что читать хороший сценарий может быть не менее интересно, чем читать хороший роман.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
![Дело об убийстве [Отель «У погибшего альпиниста»]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
Инспектор полиции Глебски, приехавший в отель «У погибшего альпиниста» по ложному вызову, остается там на ночь. За эту ночь инспектор успевает убедиться, что в отеле творится нечто странное. К тому же в эту самую ночь происходит обвал, и Глебски волей-неволей приходится остаться, чтобы решить загадку отеля «У погибшего альпиниста».