Компульсивная красота - [71]
Наконец, именно в этом метафорическом пространстве бессознательного кристаллизуются несколько загадок, фундаментальных для сюрреализма: двусмысленная роль сексуальности во влечениях к жизни и к смерти; поиск объекта, который не столько обретается, сколько теряется снова и снова; попытка положить в основу идентичности и искусства фантазии, которые их скорее подрывают, чем укрепляют; переход, размеченный эдиповыми вопросами о желании и идентификации, при котором субъект перемещается между фантастическими материнскими и отцовскими образами. В сюрреализме имеется несколько повторяющихся мотивов, которые кажутся неотделимыми от таких противоречий — мотивов настолько знакомых, что мы забываем об их странности (или наоборот?), таких, как пишущий автомат и муза-манекен, отец-гонитель и богомол. Но в основании этих мотивов лежит одна фигура, которая в лабиринте сюрреалистических догадок о желании и смерти не только конденсирует в себе материнские и отцовские образы, доэдипальное и эдипальное состояния, но и связывает психические аспекты сюрреализма с его мифологическими, историческими и современными интересами; эта фигура — Минотавр.
8. По ту сторону принципа сюрреализма?
А что насчет сюрреализма сегодня, когда он эксплуатируется как академической, так и культурной индустриями? Когда Минотавр возвращается как Бэтман, что остается от сюрреального? И что насчет нездешнего — имеет ли и оно исторические границы?
В ходе своих рассуждений я затрагивал и другие вопросы, часто относящиеся к сексуальной политике сюрреализма. Является ли сюрреальное, связанное с фрейдовским нездешним кастрационной тревогой, доменом маскулинности? Исключаются ли из него женщины в качестве активных участниц в той самой степени, в какой они репрезентируют его в качестве персонажей? Что происходит, когда сюрреалисты идентифицируют себя с этими персонажами? Означает ли это подрыв маскулинной идентичности или попросту апроприацию позиций, в некотором неоднозначном смысле ассоциирующихся с женственностью (например, позиций истерической и мазохистской)? Я говорил, что эти персонажи принципиально важны для отказа сюрреализма от сублиматорной практики прекрасного. Но можно ли считать его десублиматорную стратегию возвышенного реальной альтернативой другим модернистским течениям, которые преодолевают образ женского тела, или же перед нами мрачное воплощение этого устойчивого воображаемого конструкта?[574] Все в том же регистре сомнения я хотел бы завершить эту книгу несколькими вопросами относительно исторических пределов сюрреализма.
Бретон надеялся, что сюрреальное станет реальным, что сюрреализм преодолеет эту оппозицию и это приведет к всеобщему освобождению. Но не случилось ли обратное: не превратилось ли в постмодернистском мире развитого капитализма реальное в сюрреальное, не стала ли наша чаща символов скорее дисциплинарной в своей бредовости, нежели подрывной в своей нездешности? Сюрреализм стремился преодолеть прежде всего две оппозиции: бодрствования и сна, Я и другого. Однако уже в 1920‐е годы сюрреалисты не могли не заметить распад первой оппозиции в сновидных пространствах Парижа. Сегодня же, в фантасмагории постмодернистского города, этот распад, похоже, завершился — но с результатами, обратными освободительным. То же самое можно сказать о второй оппозиции. Сюрреалистический идеал конвульсивной идентичности носил субверсивный характер, по крайней мере по отношению к устойчивому буржуазному эго. Но не стало ли ныне то, что некогда являлось критической по своему смыслу утратой Я, повседневным состоянием асубъективности? Вспомним, как Роже Кайуа описывал пространство, которое «конвульсивно овладевает» субъектом, словно пожирает его. С точки зрения многих критиков, это специфическое психологическое состояние — когда субъект оказывается доступным сырьем для внешнего мира — стало сегодня общим социальным диагнозом. Реакция на это состояние — когда субъект выстраивает защиту против внешнего мира, угрожающего ему поглощением, — довольно очевидна как в индивидуальных установках, так и в политических движениях[575].
Все эти предполагаемые трансформации субъективности и пространственности суть знакомые идеологемы дискурса о постмодернизме. Чтобы такая периодизация культуры была убедительной, важно рассмотреть место сюрреализма в ее эволюции. Уже более сорока лет назад Бретон выдвинул следующую гипотезу на этот счет: «Болезнь, которая проявляется сегодня, отличается от той, которая проявлялась в 1920‐е годы <…> В то время духу угрожало окоченение (figèment), тогда как теперь ему угрожает расторжение»[576]. Бретон имеет в виду, что сюрреализм, ставивший перед собой цель предотвратить «окоченение» в субъектных и общественных отношениях, выделить в них освободительные потоки, в итоге столкнулся с тем, что это демонтаж был рекуперирован, эти освободительные потоки — рекодированы как «расторжение». Если на первой стадии сюрреализм стоял на службе революции, то на второй оказался на службе «революционного» капитализма. Возможно, сюрреализм всегда зависел от той самой рациональности, которой он противостоял; капиталистический обмен с его принципом эквивалентности сначала подготовил сюрреалистическую практику сопоставлений, а затем ее превзошел. «Всепроникающий характер сюрреализма служит достаточным доказательством его успеха», — писал 25 лет назад Дж. Г. Баллард, один из немногих художников, творчески расширивших сюрреализм. «Теперь нужно эротизировать и квантифицировать

Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.

Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.

В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.
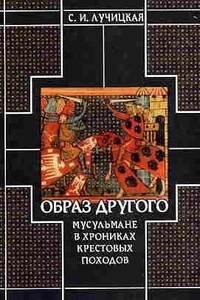
Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.
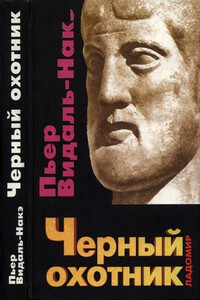
Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.
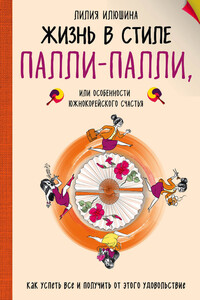
«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.

В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Это первая книга, написанная в диалоге с замечательным художником Оскаром Рабиным и на основе бесед с ним. Его многочисленные замечания и пометки были с благодарностью учтены автором. Вместе с тем скрупулезность и въедливость автора, профессионального социолога, позволили ему проверить и уточнить многие факты, прежде повторявшиеся едва ли не всеми, кто писал о Рабине, а также предложить новый анализ ряда сюжетных линий, определявших генезис второй волны русского нонконформистского искусства, многие представители которого оказались в 1970-е—1980-е годы в эмиграции.

«В течение целого дня я воображал, что сойду с ума, и был даже доволен этой мыслью, потому что тогда у меня было бы все, что я хотел», – восклицает воодушевленный Оскар Шлеммер, один из профессоров легендарного Баухауса, после посещения коллекции искусства психиатрических пациентов в Гейдельберге. В эпоху авангарда маргинальность, аутсайдерство, безумие, странность, алогизм становятся новыми «объектами желания». Кризис канона классической эстетики привел к тому, что новые течения в искусстве стали включать в свой метанарратив не замечаемое ранее творчество аутсайдеров.

Что будет, если академический искусствовед в начале 1990‐х годов волей судьбы попадет на фабрику новостей? Собранные в этой книге статьи известного художественного критика и доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Киры Долининой печатались газетой и журналами Издательского дома «Коммерсантъ» с 1993‐го по 2020 год. Казалось бы, рожденные информационными поводами эти тексты должны были исчезать вместе с ними, но по прошествии времени они собрались в своего рода миниучебник по истории искусства, где все великие на месте и о них не только сказано все самое важное, но и простым языком объяснены серьезные искусствоведческие проблемы.