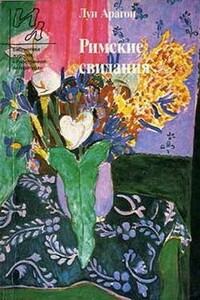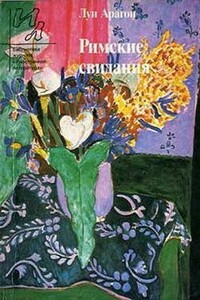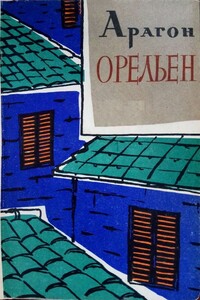Коммунисты - [19]
Вечером Мари-Виктуар долго думает над этими словами «надо иметь руки великана…» Теперь она уже не так уверена, что именно руки Висконти сумеют объять ее грезы, как охапку белых гвоздик. С давних пор девичье воображение тревожит образ дяди Армана. Романтический герой… о нем только перешептываются, и ничего о нем она не знает… Он какой-то необыкновенный, вроде Тристана. Но сколько ему теперь может быть лет?
Когда стемнело, ей не под силу стало сидеть в комнатах. Вечер такой весенний, почти совсем теплый… Она спустилась к морю и там услышала голоса. Ничего таинственного: Жоржетта, Орельен, Висконти и его супруга… Они сидели на берегy и смотрели, как с баркаса лучат рыбу. Рыбаки освещали воду факелами, а один из них, высокий, в закатанных до колен штанах, стоял на носу. Величавым движением морского бога он поднимал трезубец и вонзал его в воду, как в живую, трепещущую плоть… Где-то вдали звучала песня…
Мари-Виктуар смотрит, слушает, и никто не знает, что она здесь. Как хорошо, словно видишь, что происходит за мраморной ширмой.
Голос Висконти. Он говорит чуточку в нос и как будто пересказывает какую-то книгу. Интонации у него такие торжественные (вот так говорил в детских мечтах Мари-Виктуар таинственный дядя Арман).
— Наступает в истории момент, когда иссякают все великие идеи, когда никто больше ни во что не верит и о священных идеалах говорят только ради народа, ибо народ не знает, что священные идеалы давно умерли, и потому они еще держат его в узде. Наступает момент восхитительной свободы, неограниченной свободы умов. «Именно тогда, — говорит Валери, — на грани между порядком и беспорядком, наступает блаженный миг…»
— О какой эпохе говорил это Валери? — спросила Жоржетта.
— Об эпохе Монтескье, Ватто, Пигаля… эпохе Рамо и Флориана… восхитительное время… почти подобное нашему времени — времени Валери, Берара, Жана Франка, Кокто, Жан-Блэза… Посмотрите, какой тихий вечер… Посмотрите на эти факелы, на этих рыбаков… они не знают, что все великие идеи умерли… они ловят рыбу, как ловили ее во времена древнего Рима… а песня, — вы знаете, какую песню они поют?
И Висконти промурлыкал мелодию.
— Не знаю, — тихо сказала Жоржетта.
— Модная песенка Тино Росси, дорогая моя!
И Висконти разразился каким-то мерзким скрипучим смехом. Мари-Виктуар хотелось плакать, хотелось убежать… Ах, если б Сесиль была сейчас с нею! Но разве смех Висконти так страшен? Он испугал Мари-Виктуар, но другие находят его очаровательным. Жоржетта тихо повторяет: «Все великие идеи умерли»… — и чувствует, как эта фраза отзывается блаженным успокоением во всем ее рубенсовском теле, едва позолоченном зрелостью…
Вечер изумительно теплый. Люди красивы. Дом полон цветов. Все великие идеи умерли… идеи, за которые безумцы шли на смерть… все великие идеи умерли… настало время блаженства… жить… только жить, спокойно, безмятежно.
Какая ночь, какая тихая ночь…
А когда кончилась эта ночь, в Праге, в средневековых Градчинах, городе церквей и министерств, во дворце президента Бенеша, построенном в стиле барокко, старик-сторож, как всегда в этот час, проковылял вверх по парадной лестнице в белые с золотом залы, отворил ставни, откинув их тяжелые створки к вековым стенам, открыл резную дверь — и увидел дьявола.
У высокого окна, глядя на город, выплывающий из тумана, на излучины реки и на мост Святого Карла с каменными статуями, стоял человечек в зеленых бриджах и в коричневой рубашке, с ремнем через плечо, с жестким клоком волос, падающим на лоб, с перешибленным носом. Он стоял и покусывал подстриженные щеточкой усы. Рейхсканцлер Гитлер, чье прибытие не разбудило дворцовых служителей, своим присутствием подтвердил смерть Чехословакии, «этого искусственного порождения Версальского договора», — как писал на днях депутат от департамента Восточных Пиренеев Ромэн Висконти.
III
Как это ни странно, но к началу 1939 года такой многоопытный муж, как господин Дени д’Эгрфейль, отец Сесиль и Никола, был настолько угнетен поведением сына, что решил излить душу чудаковатому депутату Мало. Господин д’Эгрфейль не переоценивал этого представителя радикалов, но считал, что Мало может дать дельный совет. Понятно, не в выборе портного, а в политике… Ведь не кто иной, как этот самый Доминик Мало, в 1938 году сумел убедить господина д’Эгрфейль, что враждебное отношение деловых кругов к Даладье, в сущности, грубая политическая ошибка. Неужели кого-нибудь могут сбить с толку события Шестого февраля[39]? Во Франции четырех-пяти лет вполне достаточно, чтобы человек в корне изменил свои позиции. Конечно, Моррас[40] имени его слышать не может, но, погодите, он еще одумается, особенно сейчас, когда он в Академии! И потом, разве впервые нам менять свое мнение о человеке? Возьмите Бержери[41]: вчера его называли немецким шпионом, а сегодня даже «Гренгуар»[42] признает его хорошим французом. Впрочем, господин д’Эгрфейль прекрасно знал, что нельзя покончить с Народным фронтом, опираясь на «Аксьон франсез»; по этой-то причине в l934 году он давал деньги «Французской социальной партии», а не Моррасу. Но… почему же закрывать глаза на то, что де ла Рок
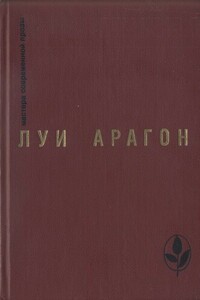
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
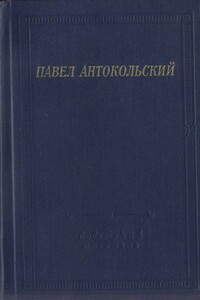
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.
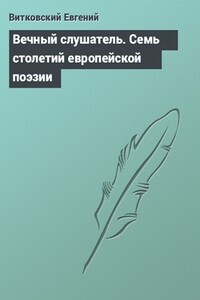
Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.
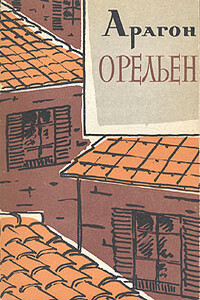
«Орельен» — имя главного героя и название произведения — «роман итогов», роман о Франции не просто 20-х годов, но и всего двадцатилетия, так называемой «эпохи между двух войн». Наплывом, как на экране, обрисовывается это двадцатилетие, но от этого не тускнеет тот колорит, который окрашивал жизнь французского общества в годы первых кризисов, порожденных мировой империалистической войной. Основное, что противопоставляет этот роман произведениям о «потерянном поколении», — это трактовка судьбы главного героя.
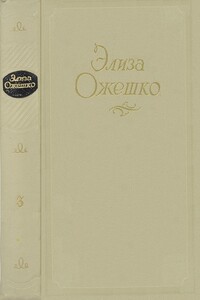
Роман «Над Неманом» выдающейся польской писательницы Элизы Ожешко (1841–1910) — великолепный гимн труду. Он весь пронизан глубокой мыслью, что самые лучшие человеческие качества — любовь, дружба, умение понимать и беречь природу, любить родину — даны только людям труда. Глубокая вера писательницы в благотворное влияние человеческого труда подчеркивается и судьбами героев романа. Выросшая в помещичьем доме Юстына Ожельская отказывается от брака по расчету и уходит к любимому — в мужицкую хату. Ее тетка Марта, которая много лет назад не нашла в себе подобной решимости, горько сожалеет в старости о своей ошибке…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
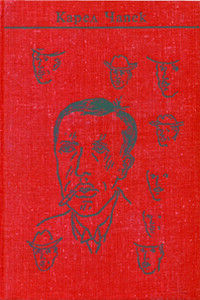
Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.
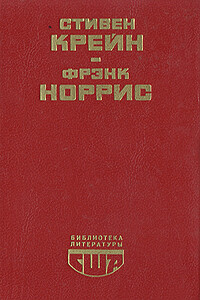
Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).
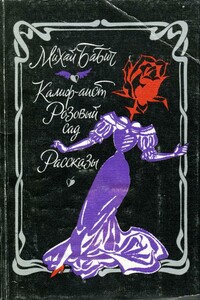
В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
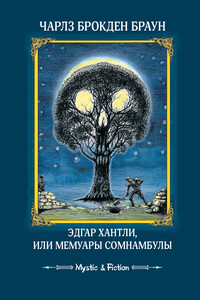
Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.