Кольца Сатурна. Английское паломничество - [34]
Часа через два после моего чудесного освобождения из лабиринта на пустоши я наконец добрался до местечка Мидлтон. Я собирался навестить писателя Майкла Хамбургера, живущего в Мидлтоне вот уже почти двадцать лет. Было четыре часа пополудни. На деревенской улице и в садах ни души. Мне показалось, что я не туда попал, что в шляпе и с рюкзаком за плечами я выгляжу как бродячий подмастерье из какого-то позапрошлого века, и я бы не удивился, если б на меня вдруг набросилась сзади шайка уличных мальчишек, или кто-то из здешних хозяев вышел бы за порог и крикнул: «Эй ты, убирайся, пока цел!» В сущности, каждый пеший путешественник и в наши дни (даже прежде всего именно в наши дни), если он не соответствует общепринятому представлению о воскресном туристе, тотчас вызывает подозрение у местных жителей. Видимо, поэтому так растерянно глядела на меня голубоглазая девушка в деревенской лавке. Дверной колокольчик давно отзвенел, и я уже довольно долго проторчал в маленькой бакалее, до самого потолка заставленной консервными банками и прочим нетленным товаром, когда она вышла из соседней комнаты, освещенной дрожащим светом телевизора, и, разинув рот, изумленно воззрилась на меня как на существо с другой планеты. Немного придя в себя, она окинула меня неодобрительным взглядом, задержав его на моей пыльной обуви. Я пожелал ей доброго дня, но она снова уставилась на меня в полном недоумении. Мне много раз приходилось наблюдать, что у сельских жителей при виде иностранца душа от страха уходит в пятки. И даже если чужак владеет их языком, они обычно плохо его понимают, а иногда не понимают вообще. Вот и эта деревенская девушка, у которой я попросил минеральной воды, в ответ лишь бессмысленно покачала головой. В конце концов она продала мне жестянку вишневой колы, и я, прислонившись к кладбищенской стене, осушил ее одним длинным глотком, как чашу цикуты, прежде чем прошел последние сто метров до дома Майкла.
Майклу было девять с половиной лет, когда он в ноябре 1933 года приехал в Англию вместе с матерью, братьями и сестрами, дедом и бабушкой. Отец Майкла покинул Берлин уже несколько месяцев назад. Он сидел, кутаясь в шерстяные пледы, в одном из практически не отапливаемых каменных домов Эдинбурга и рылся в словарях и учебниках. В Берлине он был профессором педиатрии в больнице Шарите, но, несмотря на это, теперь, в возрасте за пятьдесят, ему предстоял повторный квалификационный экзамен на незнакомом ему английском языке, если он хотел продолжать работать по специальности. Позже в своих автобиографических заметках Майкл опишет опасения семейства, путешествовавшего без отца. Самый большой страх они пережили тогда, когда им пришлось молча наблюдать, как два прирученных дедом волнистых попугайчика, которые до сих пор невредимо перенесли переезд, были конфискованы на таможне в Дувре. Нам пришлось стоять и беспомощно смотреть, как эти кроткие птицы навсегда исчезают за чем-то вроде ширмы, пишет Майкл. Собственное бессилие яснее, чем все прочее, показало нам, с какими ужасами связано перемещение в новую страну в подобных обстоятельствах. Исчезновение попугайчиков в таможенном зале Дувра было началом исчезновения берлинского детства. Новая идентичность обреталась по частям в течение следующего десятилетия. «How little there has remained in me of my native country»[45], — признается мемуарист, перебирая немногие оставшиеся ему воспоминания. Их едва ли хватит для некролога по исчезнувшему мальчику. Грива прусского льва, прусская нянька, кариатиды, держащие на плечах земной шар, таинственные звуки уличного движения и автомобильные гудки, проникавшие в квартиру с Литценбургер-штрассе, потрескивание в батарее центрального отопления, за обоями в темном углу, куда тебя ставили в наказание носом к стенке, противный запах щелочного мыла в прачечной, игра в камушки на газоне в Шарлоттенбурге. Ячменный кофе, свекольная ботва, рыбий жир и запретные малиновые карамельки из серебряной коробочки бабушки Антонины… Что, если это всего лишь плоды фантазии, миражи, растворившиеся в пустом воздухе? Кожаные сиденья в бьюике деда, станция Хазеншпрунг в Груневальде, берег Балтийского моря, Херингсдорф, песчаная дюна, окруженная чистым Ничто, «the sunlight and how it fell…»[46]. Каждый раз, когда (из-за какого-то смещения в духовной жизни) в памяти всплывает такой фрагмент, ты веришь, что можешь вспомнить все. Но в действительности, конечно, не вспоминаешь. Слишком много строений обрушилось, слишком много накопилось мусора, непреодолимы свалки и морены. Сегодня, оглядываясь на Берлин, пишет Майкл, я вижу только иссиня-черный фон и на нем серое пятно, рисунок грифелем, неразборчивые цифры и буквы: острое «s», «z», галочку «v», размазанные тряпкой и стертые с доски. Может быть, это расплывчатое пятно — все, что осталось на сетчатке глаза от тех руин, которые я застал в 1947 году, когда впервые приехал в родной город в поисках утраченного мной времени. В почти сомнамбулическом состоянии я несколько дней бродил мимо пустых фасадов, брандмауэров и развалин по бесконечным проспектам Шарлоттенбурга. И однажды в сумерках неожиданно очутился перед уцелевшим (тогда это показалось мне нелепостью) доходным домом на Литценбургерштрассе, где мы когда-то снимали квартиру. Я и сейчас еще ощущаю полоснувшее по лицу холодное дыхание подъезда. И вспоминаю чугунные лестничные перила, гипсовые гирлянды на стенах, угол, где всегда стояла детская коляска. Прежние (по большей части) фамилии жильцов на железных почтовых ящиках смотрелись элемен тами ребуса, который я должен был непременно раз га дать, чтобы сделать неслыханные события, имевшие место со времени нашей эмиграции, места не имевшими. Мне показалось, что все зависит от меня. Что стоит мне только захотеть, и оживет бабушка Антонина, которая отказалась ехать с нами в Англию. Что она, в точности как раньше, все еще живет на улице Канта. Что она не «убыла», как зна чилось в открытке Красного Креста, полученной нами вскоре после так называемого внезапного начала войны, что она и теперь, как тогда, заботится о благополучии своих золо тых рыбок, ежедневно моет их под краном в кухне, а в хорошую погоду выставляет на подоконник немного подыша ть свежим воздухом. Вот сосредоточусь на одно мгновение, составлю по слогам скрытое в загадке ключевое слово — и все станет снова таким, каким было прежде. Но я не смог составить это слово. И не смог заставить себя подняться по лестнице и позвонить в дверь нашей квартиры. Вместо этого с чувством тошноты я покинул дом. Я шел без цели и без простейшей мысли в голове, куда глаза глядят: миновал Весткройц, или Галльские ворота, или Тиргартен, не помню, помню только, что оказался на каком-то пустыре и что там были ровными рядами сложены кирпичи, десять на десять, по тысяче штук в каждом кубе или по девятьсот девяносто девять, потому что тысячный кирпич стоял сверху вертикально, то ли в знак покаяния, то ли для облегчения счета. Вспоминая сегодня об этом пустыре, я не вижу ни одного человека, вижу только кирпичи, миллионы кирпичей. В известной степени совершенный кирпичный порядок, вплоть до горизонта, а над пустырем берлинское ноябрьское небо, с которого вот-вот посыплется снег. Иногда я спрашиваю себя, откуда взялась эта мертвая тишина предзимья? Может, она — плод галлюцинации? И почему в этой пустоте, превосходящей всякое воображение, мне мерещатся последние такты увертюры к «Вольному стрелку» и непрерывное, целыми днями, целыми неделями, шипение иглы граммофона? Мои галлюцинации и сны, пишет Майкл в другом месте, часто переносят меня в некую местность, приметы которой указывают частью на Берлин, частью на деревенский Суффолк. Я стою, например, у окна на верхнем этаже нашего дома, но не вижу знакомых пойменных лугов и постоянно оживленных пастбищ. Взгляд с высоты нескольких сот метров уходит вниз на загородный поселок величиной с целую страну, пересеченный прямой, как стрела, автострадой, по которой стремительно несутся черные такси по направлению к Ванзее. Или я возвращаюсь в вечерних сумерках из долгого путешествия. С рюкзаком через плечо я подхожу к нашему дому, перед которым почему-то паркуются самые разные машины, мощные лимузины, моторизованные инвалидные кресла с огромными ручными тормозами и сигнальными гудками и зловещая карета скорой помощи цвета слоновой кости. В ней сидят две сестры милосердия, под чьими неодобрительными взглядами я неуверенно переступаю через порог и не понимаю, куда попал. Комнаты погружены в тусклый свет, стены голые, мебель исчезла. На паркетном полу разбросано столовое серебро, сплошь тяжелые ножи, ложки и вилки и приборы для рыбы. Их столько, что несчетное количество едоков могло бы поглотить Левиафана. Двое мужчин в серых плащах снимают со стены гобелен. Из ящиков с фарфором вываливается древесная шерсть. В моем сне потребовался час или больше, чтобы понять, где я нахожусь. Это не дом в Мидлтоне, а просторная квартира родителей мамы на Бляйбтройштрассе, улице Верности. В детстве музейные помещения этой квартиры производили на меня почти такое же сильное впечатление, как анфилады Сан-Суси. А сегодня здесь собрались все: моя берлинская родня, немецкие и английские друзья, родня жены, мои дети, живые и мертвые. Неузнанный, я пробираюсь между ними из салона в салон, «through galleries, halls and passages thronged with guests until, at the far end of an imperceptibly sloping corridor, I come to the unheated drawing room that used to be known, in our house in Edinbourgh, as Cold Glory»

Роман В. Г. Зебальда (1944–2001) «Аустерлиц» литературная критика ставит в один ряд с прозой Набокова и Пруста, увидев в его главном герое черты «нового искателя утраченного времени»….Жак Аустерлиц, посвятивший свою жизнь изучению устройства крепостей, дворцов и замков, вдруг осознает, что ничего не знает о своей личной истории, кроме того, что в 1941 году его, пятилетнего мальчика, вывезли в Англию… И вот, спустя десятилетия, он мечется по Европе, сидит в архивах и библиотеках, по крупицам возводя внутри себя собственный «музей потерянных вещей», «личную историю катастроф»…Газета «Нью-Йорк Таймс», открыв романом Зебальда «Аустерлиц» список из десяти лучших книг 2001 года, назвала его «первым великим романом XXI века».
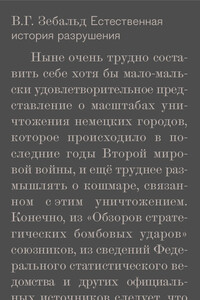
В «Естественной истории разрушения» великий немецкий писатель В. Г. Зебальд исследует способность культуры противостоять исторической катастрофе. Герои эссе Зебальда – философ Жан Амери, выживший в концлагере, литератор Альфред Андерш, сумевший приспособиться к нацистскому режиму, писатель и художник Петер Вайс, посвятивший свою работу насилию и забвению, и вся немецкая литература, ставшая во время Второй мировой войны жертвой бомбардировок британской авиации не в меньшей степени, чем сами немецкие города и их жители.

В.Г. Зебальд (1944–2001) – немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Головокружения» вышел в 1990 году.
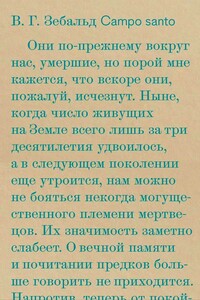
«Campo santo», посмертный сборник В.Г. Зебальда, объединяет все, что не вошло в другие книги писателя, – фрагменты прозы о Корсике, газетные заметки, тексты выступлений, ранние редакции знаменитых эссе. Их общие темы – устройство памяти и забвения, наши личные отношения с прошлым поверх «больших» исторических нарративов и способы сопротивления небытию, которые предоставляет человеку культура.

Петер Хениш (р. 1943) — австрийский писатель, историк и психолог, один из создателей литературного журнала «Веспеннест» (1969). С 1975 г. основатель, певец и автор текстов нескольких музыкальных групп. Автор полутора десятков книг, на русском языке издается впервые.Роман «Маленькая фигурка моего отца» (1975), в основе которого подлинная история отца писателя, знаменитого фоторепортера Третьего рейха, — книга о том, что мы выбираем и чего не можем выбирать, об искусстве и ремесле, о судьбе художника и маленького человека в водовороте истории XX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!

Книга «Естественная история воображаемого» впервые знакомит русскоязычного читателя с творчеством французского литератора и художника Пьера Бетанкура (1917–2006). Здесь собраны написанные им вдогон Плинию, Свифту, Мишо и другим разрозненные тексты, связанные своей тематикой — путешествия по иным, гротескно-фантастическим мирам с акцентом на тамошние нравы.
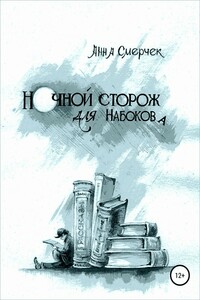
Эта история с нотками доброго юмора и намеком на волшебство написана от лица десятиклассника. Коле шестнадцать и это его последние школьные каникулы. Пора взрослеть, стать серьезнее, найти работу на лето и научиться, наконец, отличать фантазии от реальной жизни. С последним пунктом сложнее всего. Лучший друг со своими вечными выдумками не дает заскучать. И главное: нужно понять, откуда взялась эта несносная Машенька с леденцами на липкой ладошке и сладким запахом духов.

Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы такие глубокие и трагические связи. Русские немцы – люди промежутка, больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. Две мировые войны. Две самые страшные диктатуры в истории человечества: Сталин и Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между жерновами истории, между двумя тоталитарными режимами, вынуждавшими людей уничтожать собственное прошлое, принимать отчеканенные государством политически верные идентичности, – история одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол гомеопатии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур.