Кино Японии - [33]
Сила этих фильмов Имаи во многом определяется реалистичностью сценариев, написанных Ёко Мидзуки, Ясутаро Яги и Сином Хасимото, тщательно исследовавших предмет. Персонажи Имаи располагают к себе сердца, потому что его фильмы — это зарисовки повседневной жизни людей, к которым зритель сразу чувствует симпатию.
Однако в то же время Имаи очень трудно быть объективным по отношению к своим героям. Так, банда хулиганов в «Мраке среди дня» показана просто как трогательная группа хороших мальчиков, а молодые преступники в «Истории чистой любви» («Дзюнъай моногатари», 1957) предстают сентиментальными молодыми людьми с чистыми сердцами. Такое отсутствие объективности, характерное и для Киноситы, порой искажает реальность в его лучших фильмах.
Несмотря на эти недостатки, и Киносита в фильмах, критикующих общество, таких, как «Невинная любовь Кармен», и Имаи в фильмах демократической направленности отрекались от своего «участия» в войне. Они оправдывали себя, как бы говоря, что тогда они работали против своей воли, а теперь они делают те фильмы, которые считают нужными. Изменение идеологического содержания их картин не отразилось на художественных достоинствах этих работ — им удавалось делать неплохие фильмы даже тогда, когда заложенная в них идея была им чужда; в основе их творчества лежала вера в солидарность общества как единого социального организма.
После войны эта вера побудила Имаи и Киноситу изображать обаятельных людей, привязанных друг к другу. В их фильмах тех лет тяготы войны уступили место социальному злу, особо ярко выступающему еще и потому, что страдают по преимуществу хорошие люди, сочувствующие и поддерживающие друг друга, что помогает им выносить удары судьбы. Тема разделенного страдания также присутствует в таких послевоенных фильмах, как «Утро в доме Осонэ» и «Мы еще встретимся». В этом отношении между послевоенным жанром антивоенных фильмов и фильмами «в рамках национальной политики», сделанными во время войны, нет большой разницы. Пожалуй, единственным отличием была замена сцен победы сценами поражения; это становится совершенно очевидным при сравнении фильмов Имаи «Отряд смертников на дозорной вышке» и «Башня лилий» («Химэюри-но то», 1953). И в том, и в другом Имаи воспевает группу очень симпатичных японцев с трагическими судьбами (солдаты войск безопасности и их семьи в Корее; школьницы на Окинаве), которых атакуют (корейские партизаны; американцы) и полностью уничтожают. Единственная разница состоит в том, что в первом варианте на выручку приходят японские солдаты, обращая поражение в победу, а во втором — школьницы погибают. Это, однако, всего лишь изменение обстоятельств, но не темы.
«Башня лилий» принесла большую прибыль, так же как это было и с «Войной на море от Гавайев до Малайи», вероятно, потому, что в обоих превозносилась сентиментальная любовь к своим близким. Аналогичным фильмом была картина Киноситы «Двенадцать пар глаз» («Нидзюси-но хитоми», 1954). Фильм считается величайшим японским антивоенным произведением, он принес денег больше, чем «Башня лилий», и, пожалуй, выжал из японских зрителей больше слез, чем любой другой послевоенный фильм. В картине «Армия» Киносита показал горе матери, провожающей сына на войну, использовав кажущуюся бесконечной сцену, в которой сочувственный глаз камеры зафиксирован на старой кукле сына. В фильме «Двенадцать пар глаз» режиссер заменил мать на учительницу, провожающую на войну своих бывших учеников, и, поскольку на этот раз количество уходящих увеличилось, пропорционально ему увеличилось и горе. Роль бытовых деталей в фильме возрастает не только потому, что это хронологический отчет о буднях простых японцев от времен подъема милитаризма и до послевоенного периода, но также и потому, что автор исчерпывающе раскрывает здесь тему страданий любящих и любимых людей в неблагоприятных обстоятельствах.
4 апреля 1928 года молодая учительница по имени Хисако Оиси приходит в начальную школу в бедной деревне рыбаков и крестьян на острове Сёдосима во Внутреннем Японском море. Она послана в эту отдаленную школу, стоящую на оконечности мыса, на год, в течение которого ей предстоит работать там с единственным коллегой. Прибыв в деревню на велосипеде и в западной одежде, она шокирует местных жителей: в 1928 году учителя и школьники только-только еще стали переходить от кимоно к западной одежде. Японский зритель того поколения, без сомнения, почувствовал приступ ностальгии по «невинным», минувшим без возврата дням, что усугублялось изображением очаровательных учеников — пяти мальчиков и семи девочек (откуда и название) в своих провинциальных кимоно. Их школьная песня, постоянно звучащая в фильме, еще более усиливает ностальгическое настроение.
Молодость и веселый нрав учительницы быстро очаровывают детей, и они дают ей прозвище «Госпожа Коиси» (ее фамилия — Оиси, где «о» значит «большая»; «Ко» по-японски — «маленькая»). Однажды дети решают подшутить над ней, они выкапывают и маскируют яму, в которую она падает. Шалость, однако, приводит к плачевным результатам: учительница повреждает ногу и, передвигаясь только на костылях, уже не может ходить в школу. Через месяц дети решают тайком навестить ее в доме, где она остановилась, в восьми километрах от школы. Они радостно пускаются в путь, но вскоре у кого-то рвутся сандалии, кто-то начинает плакать. Все же они добираются до нее, и это еще более укрепляет их дружбу. Даже родители, взволнованные сперва исчезновением детей, с тех пор относятся к учительнице мягче, хотя вначале ее западные привычки произвели на них неприятное впечатление. Весь класс фотографируется с учительницей на память, звучит песня школы; эти фотография и песня проходят через весь фильм как знаменательный символ.
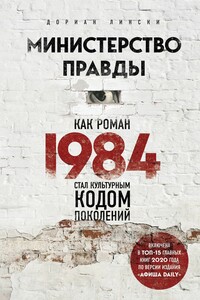
«Я не буду утверждать, что роман является как никогда актуальным, но, черт побери, он гораздо более актуальный, чем нам могло бы хотеться». Дориан Лински, журналист, писатель Из этой книги вы узнаете, как был создан самый знаменитый и во многом пророческий роман Джорджа Оруэлла «1984». Автор тщательно анализирует не только историю рождения этой знаковой антиутопии, рассказывая нам о самом Оруэлле, его жизни и контексте времени, когда был написан роман. Но и также объясняет, что было после выхода книги, как менялось к ней отношение и как она в итоге заняла важное место в массовой культуре.
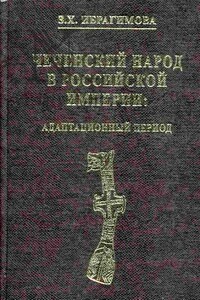
В представленной монографии рассматривается история национальной политики самодержавия в конце XIX столетия. Изучается система государственных учреждений империи, занимающихся управлением окраинами, методы и формы управления, система гражданских и военных властей, задействованных в управлении чеченским народом. Особенности национальной политики самодержавия исследуются на широком общеисторическом фоне с учетом факторов поствоенной идеологии, внешнеполитической коньюктуры и стремления коренного населения Кавказа к национальному самовыражению в условиях этнического многообразия империи и рыночной модернизации страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.
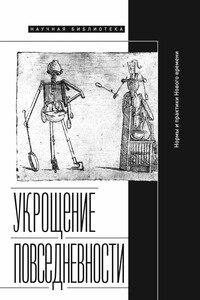
Одну из самых ярких метафор формирования современного западного общества предложил классик социологии Норберт Элиас: он писал об «укрощении» дворянства королевским двором – институцией, сформировавшей сложную систему социальной кодификации, включая определенную манеру поведения. Благодаря дрессуре, которой подвергался европейский человек Нового времени, хорошие манеры впоследствии стали восприниматься как нечто естественное. Метафора Элиаса всплывает всякий раз, когда речь заходит о текстах, в которых фиксируются нормативные модели поведения, будь то учебники хороших манер или книги о домоводстве: все они представляют собой попытку укротить обыденную жизнь, унифицировать и систематизировать часто не связанные друг с другом практики.
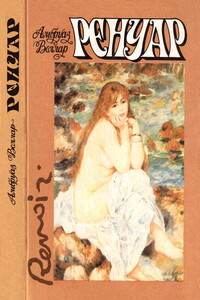
Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.