Караван-сарай - [22]
– Всё получилось? – спросила она резко.
После минутного колебания, точно прислушиваясь к тем словам, что он жаждал от неё услышать, Пьер наконец взглянул на любовницу – но напрямую не ответил.
– Тебе не интересно, заходил ли кто-нибудь утром? – подсказал он мягко.
– А что, был кто-то?
– Да.
– Ну говори тогда.
Она подумала о Поль-Поле.
Он опустил глаза – но только затем, чтобы лучше её рассмотреть:
– Некая дама.
– Что, имени у неё нет?
– Она сказала, что представится только тебе.
– Какая-нибудь девица из парижского Казино… Как её только занесло сюда!
Пьер тряхнул головой:
– Нет, нет, – горячо возразил он, поглядывая украдкой на кольцо, которое сжимал в руке, – это дама благородная.
– Может, и так. С чего ты взял?
– Весь её вид, что-то неуловимое: ничего общего с кокоткой.
Мари не смогла сдержать улыбки:
– И что, хороша собой?
Пьер протянул любовнице фотографию:
– По-твоему, в публичных домах много таких женщин?
Мари бросила на снимок рассеянный взгляд, но почти тотчас же, вскрикнув, выхватила фото; она разом побледнела, грудь её взволнованно вздымалась. Под фотографией стояла подпись мужчины, которого она любила больше всего на свете… Но в этот момент в дверь постучали и вошёл посыльный отеля с огромным букетом цветов – точь-в-точь как те, что третьего дня появились на столике в её купе перед отправлением с Лазурного берега.
Пьер не мог понять поведения Мари – раскрыться его чуткости мешала молодость: откуда ему было знать, что самое страшное обычно случается, когда просто оставляешь открытой дверь, и жизнь всегда найдёт возможность прорваться к тем, кто считает себя надёжно защищённым. Он походил на новорождённого младенца, лишённого воспоминаний, на которые можно было бы опереться, и Мари уже второй раз за минувшие сутки почувствовала, что Пьер обескуражен, а потому смотрела на него с нескрываемой враждебностью.
Нам подали креветок, которые настолько меня поглотили – да и музыка помогла, – что конца главы я не уловил. Послышалось только восторженное восклицание Розины: да это же шедевр! и что-то о том, как её растрогали красота и изящество этих строк. Такие слова из уст моей подруги меня поразили: глаза блестели, её охватило возбуждение, почти что горячка, и на мгновение показалось даже, что ей трудно говорить.
Ларенсе, тоже почему-то разнервничавшись, вещал, не закрывая рта. Монокль то и дело вываливался у него из глаза[157], и он возвращал его на место всё более дёргающимся жестом. Я был заинтригован и начал пристальнее наблюдать за этой парочкой: на столике между ними стояла крошечная золотая коробочка, в которую они то и дело запускали пальцы под предлогом обострения ринита. С литературы Розина и Ларенсе перешли на «зимние виды спорта» и уже вовсю скользили по склонам, припудренным белым порошком.
8. Мимозы
Когда мы вышли из ночного кафе, уже начинало светать. Наши лица отливали приятной мертвенной бледностью, на душе было неспокойно. Я проводил Розину на проспект Булонского леса, она уже совсем успокоилась, и, усевшись под её балдахином, мы принялись беспечно болтать о книге юного гения (как она теперь величала Ларенсе!). Недовольная моей флегматичностью, она допытывалась, что я о ней думаю.
– Что ж, – начал я, – мне лично кажется, что «Омнибус» написала одна из дочерей Лота, обернувшаяся соляным столпом[158]! Бедный Ларенсе точно так же беспрестанно оглядывается назад, ему и дела нет до той радости, что доставляют «забвение и возрождение»; его опус отдаёт несвежим духом светского салона. Что же до его юношеского пессимизма, то по сути это как раз оптимизм. Настоящий пессимизм – не писать, не рисовать, сбросить с себя все эти вериги и предпочесть ремеслу творца любое другое[159]. Искусство – что болезнь, а её симптомы – роскошная шевелюра, выразительные глаза и румянец на гладкой коже, вкупе с полной изоляцией от жизни во всех её проявлениях. Такие «больные» носят свой внутренний мир на манер парадного платья и, похоже, лишены возможности просто любить, прогуливаться, смеяться! Они даже не стареют – не избегая, вместе с тем, долгой и мучительной смерти, хоть она и оставляет нетронутыми их шелковистые волосы, глаза и цвет кожи!
Сами того не замечая, они постепенно превращаются в мумий, зажатых в глубине своих саркофагов; на стягивающие их перевязи пришпилены маленькие разноцветные листовки – реклама средств для сохранения густых волос, ясных глаз, нежной кожи и приятного цвета лица!
– Вопреки всем этим вашим парадоксам, не станете же вы отрицать, что в искусстве содержится и ряд необходимых познаний?
– Знаете, мне претит всё то, что именуют познанием красоты, такие заклинания действуют лишь на глупцов. Хотя, конечно, они снимают всякий риск, во тьме нам уже не видится пропасть, и точно знаешь, на каком расстоянии от вас ближайшее разумное существо.
– Но, милый друг, – перебила меня Розина, – расстояния важны, вне зависимости от того, сближают ли они нас или разделяют.
– Я убеждён: ни то, ни другое, все расстояния равны. Америка – в Париже, а Париж – в Америке! Я так же далеко от Парижа, находясь в нём, как если бы я был…
Розина вновь нетерпеливо оборвала меня:

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
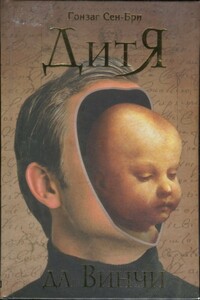
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.
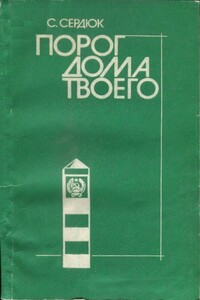
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.

Первое в России отдельное издание стихов, поэм, пьес и прозы одного из основателей литературного объединения ОБЭРИУ, соавтора А. Введенского и Д. Хармса Игоря Владимировича Бахтерева (1908-1996). Тексты охватываются периодом с 1925 по 1991 год и, хотя их значительная часть была написана после распада группы и ареста автора (1931), они продолжают и развивают ее творческие установки.

Книга впервые представляет основной корпус работ французского авангардного художника, философа и политического активиста, посвященных кинематографу. В нее входят статьи и заметки Дебора о кино, а также сценарии всех его фильмов, в большинстве представляющие собой самостоятельные философско-политические трактаты. Издание содержит обширные научные комментарии. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
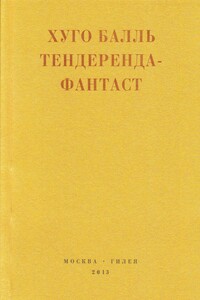
Заумно-клерикальный и философско-атеистический роман Хуго Балля (1886-1927), одно из самых замечательных и ярких произведений немецко-швейцарского авангарда. Его можно было бы назвать «апофеозом дадаизма».

Повесть «отца русского футуризма» Давида Бурлюка, написанная в 1921 году в Японии и публиковавшаяся лишь в английском переводе (1954 г.), впервые воспроизводится по архивной рукописи. Филонов – фамилия её главного героя, реальным прототипом которого выступил тот самый русский и советский авангардный художник, Павел Николаевич Филонов. События этой полумемуарной повести происходят в Санкт-Петербурге в художественной среде 1910-х годов. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.