Каллиграфия страсти - [42]
А в тот день я находился у истока, я добрался до рукописи и играл ее. Чего еще было желать? Медленно продвигался я к двум последним страницам и ждал их, как озарения. Я был подобен пилигриму, подходящему к собору Нотр-Дам по узким улочкам, куда почти не проникает солнце. Но вот он оказывается на площади и сразу видит только грандиозные башни, взмывающие вверх, к небу. Эффект внезапности потрясает, потому что ожидаешь увидеть все сразу в перспективе, а на самом деле вынужден отпрянуть к стенке, самой далекой от фасада Собора, и все равно не можешь собрать все увиденное воедино.
Я ждал, что переход от 14-й страницы к 15-й будет таким же ошеломляющим, как явление готического шедевра во всем его блеске. И мои оторопевшие руки замрут на миг, не в силах охватить текст, трудность которого я уже предвидел. Так и должно было случиться, потому что первый такт коды как раз открывал 15-ю страницу: я переверну ее и увижу сразу все. Но сначала надо добраться до тех самых «повисших» аккордов, которые кажутся завершением Баллады, на самом деле открывая финал. И тут я остановился. Я мог себе это позволить, потому что был не на сцене и даже не в студии звукозаписи. Я вгляделся в нотные знаки, в «кружочки друг над другом», (как сказал бы тот, кто никогда не видел нот), написанные неровно, незакрытыми линиями. Лиги над аккордами были обозначены ярче, словно Шопен обвел их потом более толстым пером и более темными чернилами.
Я перевернул страницу и очутился в неузнаваемом мире. Я почти не мог разобрать нот, на меня напала та самая тоска, что в детском сне или в дни метаний по набережным Сены. Мне стало страшно. Я оторвался от клавиатуры, подошел к окну и несколько раз Глубоко вздохнул, словно пытаясь стряхнуть недомогание. А вокруг все было как прежде, и Сена казалась — водопадом, а башни Нотр-Дам — крыльями мельницы, взбивающими воду. Эйфелева башня раскачивалась, как гигантский стальной маятник, а над нею космическими кораблями кружили звезды. Я знал, что все пройдет, сердце замедлит удары и мир вернется на круги своя. Я снова сел к нотам и сразу увидел, что это не переписанная начисто партитура: тут не было ни более легких или жирных штрихов, ни неровностей в штилях и перекладинах. Наверное, Шопен писал, опершись на пюпитр локтями и положив голову на руку, а другой рукой пробуя на клавиатуре аккорды. Левая рука, потом правая, потом на ходу — коррекция не понравившегося пассажа. Здесь были такты, зачеркнутые почти с бешенством, и замененные на полях рукописи, которые походили скорее на поля сражения. Никакого сходства с теми дивными партитурами, которые я научился любить в детстве, когда перелистывал красивые печатные ноты с размеренными интервалами. В своей уравновешенной, ухоженной Вселенной на пяти линейках я всегда все мог расставить по местам и подчинить порядку даже страсть. Моя музыка была напечатана четко, ясно, с типографской элегантностью, которая и сейчас меня пленяет. Ее черно-белая вязь красноречивее рисунков Дюрера.
Я был в состоянии отличить чистовой вариант от рабочего. Уж на что я привык к помаркам в рукописях XIX века, но тут я растерялся. Интересно, что же должна была подумать Соланж? И пристало ли дарить женщине черновую рукопись, мало понятную тому, кто сам не сочиняет? Я рассуждал, как глупый новичок, который полагает, что прошлое — это и есть его детские партитуры. Как будто законы и каллиграфия страсти скреплялись точными правилами и воспитанием. Как будто моя нотная Вселенная способна была дотянуться до чьей-нибудь еще. Что за вздор! И я начинал это понимать, пусть оплачивая издержки собственной головой, которая, кстати, стала кружиться чуть меньше. Я вернулся к Стейнвею, ласково погладив его по дороге. Потом, снова усевшись перед пюпитром, со стесненным дыханием взглянул на два последних листка рукописи. Как же начать?
Ремарка гласила: «Presto con fuoco». То же обозначение появлялось при теме Первой, потом Второй Баллады. Presto con fuoco. Каждый пианист знает, как играется Presto con fuoco. Инструмент раскаляется под пальцами, а пальцы, бегая по клавишам, должны силой заставить их звучать, как добивается своего шпажист на поединке, мгновенно парируя удары соперника и заставляя его шпагу отзываться резким звоном. Руки летают над клавиатурой с бешеной скоростью, сухожилия натянуты, пальцы резко опускаются и высоко поднимаются. Студенты изрядно корпят, чтобы овладеть этой техникой: она требует силы, точности и большой скорости. После 1841 года Шопен больше не игр-лл в концертах те свои сочинения, где было «Presto con /uoco». В частности, во Второй Балладе он исполнял только первый раздел, более медленный. Здоровье не позволяло. Эти страницы были написаны за шесть или семь месяцев до смерти, и ясно, что он уже не мог их сыграть. Их могла ему сыграть только Соланж, ибо никто чужой не должен был знать об этих листках. Однако, хоть она и училась у Шопена, вряд ли ее технический уровень позволил бы ей с этим справиться. Я взглянул на последнюю страницу, там стояла дата: 17 февраля 1849 г., то есть точно 8 месяцев до смерти.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено глубоко внутри.Это история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в самой себе.Бестселлер The New York Times.
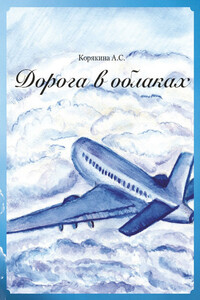
Из чего состоит жизнь молодой девушки, решившей стать стюардессой? Из взлетов и посадок, встреч и расставаний, из калейдоскопа городов и стран, мелькающих за окном иллюминатора.
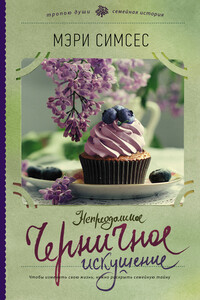
Эллен хочет исполнить последнюю просьбу своей недавно умершей бабушки – передать так и не отправленное письмо ее возлюбленному из далекой юности. Девушка отправляется в городок Бейкон, штат Мэн – искать таинственного адресата. Постепенно она начинает понимать, как много секретов долгие годы хранила ее любимая бабушка. Какие встречи ожидают Эллен в маленьком тихом городке? И можно ли сквозь призму давно ушедшего прошлого взглянуть по-новому на себя и на свою жизнь?

Самая потаённая, тёмная, закрытая стыдливо от глаз посторонних сторона жизни главенствующая в жизни. Об инстинкте, уступающем по силе разве что инстинкту жизни. С которым жизнь сплошное, увы, далеко не всегда сладкое, но всегда гарантированное мученье. О блуде, страстях, ревности, пороках (пороках? Ха-Ха!) – покажите хоть одну персону не подверженную этим добродетелям. Какого черта!

Представленные рассказы – попытка осмыслить нравственное состояние, разобраться в проблемах современных верующих людей и не только. Быть избранным – вот тот идеал, к которому люди призваны Богом. А удается ли кому-либо соответствовать этому идеалу?За внешне простыми житейскими историями стоит желание разобраться в хитросплетениях человеческой души, найти ответы на волнующие православного человека вопросы. Порой это приводит к неожиданным результатам. Современных праведников можно увидеть в строгих деловых костюмах, а внешне благочестивые люди на поверку не всегда оказываются таковыми.

В жизни издателя Йонатана Н. Грифа не было места случайностям, все шло по четко составленному плану. Поэтому даже первое января не могло послужить препятствием для утренней пробежки. На выходе из парка он обнаруживает на своем велосипеде оставленный кем-то ежедневник, заполненный на целый год вперед. Чтобы найти хозяина, нужно лишь прийти на одну из назначенных встреч! Да и почерк в ежедневнике Йонатану смутно знаком… Что, если сама судьба, росчерк за росчерком, переписала его жизнь?