Как жить? - [5]
Разум ткет свою паутину из чувств. Коллизии Природы и Человека, внутреннего и окружающего терзают душу болью, тоской и страданием. Через многие тернии путь от сиротского одиночества к духовной свободе и радости познания. Высокое счастье это дано лишь тому, кто способен, кто не убоится выстрадать этот путь. В вечном поединке с самим собой, со всем миром творит донкихот свою вселенную, в какой он живет, в какой он хотел бы жить.
…Первые впечатления смутны и разрозненны. Робкий огонек только что проснувшегося сознания, то затухая, то разгораясь, осторожно выводит человека из тьмы небытия. Что видит он? Какие чувства разбудят в его душе первые картины внешнего мира? Как и когда впервые зазвучат в нем мелодии зла и добра, тоски и радости, уродливого и прекрасного — та драматическая музыка, оркестровая мощь которой будет сопровождать и направлять его на нелегком, бесконечном пути познания?
Леонид Павлович начал сознавать и помнить себя лет с трех-четырех.
В тусклом, красноватом свете керосиновой лампы стоят на земляном полу два человека. Они кажутся огромными в сумрачной тесноте маленькой комнаты. Мать, весело тараторя, тенью металась вокруг стола. Один из вошедших — в пыльных хромовых сапогах, с желтыми блестящими пуговицами на кителе без погон, весь в клубах папиросного дыма — шагнул, заметно припадая на хромую ногу, к Леньке: «Сынка!» Сильные руки с крепкими шишковатыми пальцами взметнули полусонного Леньку под потолок. Он прижался к колючей щеке отца. Другой был — дядя Сережа. Муж тети Кати, бабушкиной сестры, он канул вскоре бесследно, оставив ее с двумя пацанами. Но об этом Ленька узнает позднее. А пока он перекочевал к симпатичному дяде, который поцеловал его и опустил на пол, не отрывая от Леньки добрых, смеющихся глаз.
Отвинтив металлический колпачок трофейной, обшитой темным деревом с вмятиной на полированном боку, фляжки, он протянул ее Леньке. Ленька приложился к железному горлышку. Было сладко и вкусно: «Что это?» — «Красная водичка», — сказал дядя Сережа и налил из фляжки в граненый стаканчик. Стакан засверкал гранями, как драгоценный рубин, полный глубокого, волшебного света. Так красиво, что жаль было пить. Но не пить Ленька не мог. Он обхватил стакан обеими руками и, осторожно поднося к губам, старался растянуть неизъяснимое наслаждение, да так, чтобы водичка не кончалась. Но с каждым глотком, каким бы маленьким и незаметным он ни был, рубиновое сияние меркло. Стакан вдруг стал пустым и неинтересным. Еще! Красной водички больше не было. Фляжка лежала на столе и была пуста. Облизывая сладкие жаждущие губы, Ленька еще не мог знать, что в первый же момент сознательного восприятия столкнулся с одной из самых сложных, постоянных проблем человеческого существования, гениально описанной Бальзаком в «Шагреневой коже», — проблемой взаимоисключающих желаний. Он поймет это гораздо позже, с годами, продираясь через переплетения житейских противоречий, досыта испив коварство утоленных желаний, оборачивающихся змеиным жалом расплаты, распаляющих новую нужду и потребность.
… Осеннее солнце выкатывается из-за голых ветвей раскидистых деревьев, столпившихся на краю высохшего арыка. На ветвях бараньими тушами висят бурдюки с кислым молоком — катыком. На желтых стенах глинобитных лачуг отогреваются в первых лучах темные квадраты маленьких окон. Апайка в длинном до пят, выцветшем, ситцевом когда-то платье сидит на корточках перед дымящимся очагом — печет чуреки. На внутренние стенки раскаленного котла шлепает сырые, истыканные вилкой лепешки, ловко расправляет их смуглыми костистыми пальцами и раскатывает из теста следующие. И вот уже на тряпку падает первый пышущий жаром чурек. От коричневой, лоснящейся корки, от сладкого хлебного аромата текут слюни. Апайка смазывает дымящуюся корку промасленным пером, кидает сверху другой испеченный чурек. Горка растет. Леньке хочется есть. Но ни дома, ни во дворе матери нет.
Она появилась с вязанкой дров на спине. Дрова тут достаются трудно. Сухие, жесткие прутья саксаула, гребенчука, рубят и носят издалека. Мать бросила вязанку у порога, расстегнула фуфайку и села на дрова, вытирая белым шерстяным платком взмокший лоб и слезы, навернувшиеся на глаза от усталости, обиды, беспомощности, заставляющей ее, красивую молодую женщину, крутиться в далеком чужом краю за мать, за осужденного на три года отца, за ишака, на котором туркмены возят дрова, а она их таскает на собственном горбу.
P. S. Очевидная незавершенность текста нуждается в пояснении.
Это начало автобиографической повести, которую я задумал в лагере, в начале 80-х годов. А что было делать? Писать мне было строжайше запрещено, ибо я за то и сидел. Не писать я не мог. Еще в тюрьмах (СИЗО) постоянно обращались ко мне сокамерники с просьбой написать жалобу на ведение следствия, на приговор. А как откажешь, если многие приговоры действительно были сляпаны, и следствие зачастую велось с угрозами, избиениями, подтасовкой фактов. Я же сидел с уголовниками, в основном это были малообразованные ребята и мужики. А я был в очках, и звали меня «профессор».

Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда.

Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда.
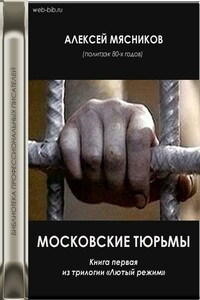
Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда.

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Это роман о потерянных людях — потерянных в своей нерешительности, запутавшихся в любви, в обстановке, в этой стране, где жизнь всё ещё вертится вокруг мёртвого завода.

Самое начало 90-х. Случайное знакомство на молодежной вечеринке оказывается встречей тех самых половинок. На страницах книги рассказывается о жизни героев на протяжении более двадцати лет. Книга о настоящей любви, верности и дружбе. Герои переживают счастливые моменты, огорчения, горе и радость. Все, как в реальной жизни…

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.

Книга известного политика и дипломата Ю.А. Квицинского продолжает тему предательства, начатую в предыдущих произведениях: "Время и случай", "Иуды". Книга написана в жанре политического романа, герой которого - известный политический деятель, находясь в высших эшелонах власти, участвует в развале Советского Союза, предав свою страну, свой народ.

Книга построена на воспоминаниях свидетелей и непосредственных участников борьбы белорусского народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Передает не только фактуру всего, что происходило шестьдесят лет назад на нашей земле, но и настроения, чувства и мысли свидетелей и непосредственных участников борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, борьбы за освобождение родной земли от иностранного порабощения, за будущее детей, внуков и следующих за ними поколений нашего народа.