Как читать и понимать музей. Философия музея - [39]
Линия советской власти по созданию новой пролетарской культуры означала построение модели, полностью контролируемой и управляемой государством. Для этого одних только инструкций и регламентов было мало – требовалось самое радикальное «потрясение основ».
В экспозиции Третьяковской галереи Девочка перед картиной В. Васнецова «Иван-царевич на сером волке»
Черно-белая фотография Мартины Франк
«Революция сопровождается всегда <…> одним фактом <…> в конечном счете имеющим громадное историческое значение. Революция перегруппировывает предметы… Мы не должны бояться перегруппировок художественных ценностей. Мы не должны охранять художественные собрания в тех формах, в которых они существовали до революции… Если мы будем считать фетиш старых музеев разрушенным, если мы не будем идолопоклонствовать перед историческими традициями музеев <…> то мы найдем и материал, и методы для художественного строительства», – писал в 1920 г. Н. Г. Машковцев (1887–1962), сотрудник Третьяковской галереи и деятель российского Наркомпроса, в чью задачу входила организация музеев на местах (69).
Трудно сказать, следовало ли советское государство концепции сетевого управления музеями, зародившейся в наполеоновской империи, или оно самостоятельно пришло к этой идее. В любом случае, результатом стал беспримерный государственный передел музейных и частных коллекций. «Сегодня, – отмечает М. Б. Пиотровский, – бывшие эрмитажные картины составляют основу собраний европейского искусства множества российских и бывших советских музеев… Тем временем музею удалось добиться передачи ему коллекций небольших музеев и национализированных коллекций» (70).
Ряд решений советских властей в отношении музеев уже послевоенного времени представляются сегодня лишенным культурного смысла… или, наоборот, полным тайных замыслов. Это касается, например, пушкинских реликвий из собраний московских музеев, которые после их демонстрации на выставке в Историческом музее к 100-летию гибели поэта и – уже после войны – возвращения из эвакуации оказались целиком переданы в ленинградские собрания.
История советского музейного дела часто указывает на противоречия между публичными декларациями власти и реальной практикой. Вопреки объявленному намерению превратить музей в центр науки и просвещения, его регулярно использовали в целях массовой пропаганды: в «ударных компаниях по перевыборам в Советы, по поднятию урожайности, по антирелигиозной пропаганде, по госзаймам, по пропаганде пятилетнего плана, по осенней посевной компании и пр.» (71).
То же самое относится к государственной политике обращения с памятниками и произведениями искусства. Несмотря на существовавший с 1918 г. декрет Совнаркома «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения», ценности, накопленные Государственным музейным фондом, государство решает превратить в мощный рычаг «содействия индустриализации» (72). С государственного учета снимаются не менее 23 тысяч предметов и направляются в торговый оборот (73). Один только Государственный Эрмитаж безвозвратно теряет тысячи экспонатов, в том числе и совершенно уникальные. Некоторые из этих произведений в период Второй мировой войны были отобраны нацистами уже у новых владельцев для музея Гитлера в Линце. «Продажи были приостановлены только в 1932 г. после прямого и удачно организованного обращения будущего директора Эрмитажа Иосифа Абгаровича Орбели к Сталину» (74).
Советское переустройство музеев в значительной степени затронуло не только коллекции, но и их хранителей. На рубеже 1920–1930-х гг. начинаются проверки личного состава музеев. «Старые специалисты не просто изгонялись с работы – против некоторых из них были выдвинуты обвинения в контрреволюционной деятельности, и они были осуждены к заключению…» (75). Сводных данных о смене музейных кадров, как указывают исследователи, нет, но, например, известно, что в Историческом музее в Москве был ликвидирован целый общеисторический отдел, в Академии материальной культуры в Ленинграде уволено 60 сотрудников… В этом отношении особенно показательна история Эрмитажа, описанная М. Б. Пиотровским в книге «Мой Эрмитаж». Действовавшая в музее рабоче-крестьянская инспекция без лишних объяснений объявляла профессионально непригодными специалистов с неподходящим классовым происхождением. «Мы должны черпать наши кадры из самой гущи народных масс, из среды рабочих и крестьян, по примеру культармейцев мы должны иметь музармейцев», – призывал под аплодисменты делегатов один из ораторов Первого музейного съезда (76).
«На самом деле в Эрмитаже всегда было много людей из всех страт высших слоев России, – отмечает М. Б. Пиотровский. – Немцы, начинавшие русскую науку, французы, потомки джучидов, рюриковичи и остзейские дворяне… В лагеря и ссылки ушли многие подававшие надежды и активные в науке люди» (77). По воспоминаниям современников, уволенные из музея уже не могли найти работу по специальности и обрести достойный социальный статус. В. А. Эйферт, руководивший ГМИИ им. А. С. Пушкина в 1936–1939 гг., в Карагандинской области, куда он был выслан из Москвы в 1941 г. как немец по национальности, работал в совхозе, на обогатительной фабрике, был бухгалтером в сельпо, заведовал «красным уголком»…
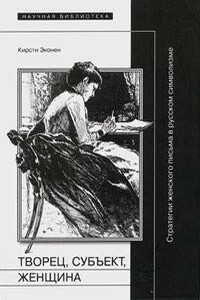
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Из этой книги читатель узнает, что реальная жизнь кельтских народов не менее интересна, чем мифы, которыми она обросла. А также о том, что настоящие друиды имели очень мало общего с тем образом, который сложился в массовом сознании, что в кельтских монастырях создавались выдающиеся произведения искусства, что кельты — это не один народ, а немалое число племен, объединенных общим названием, и их потомки живут сейчас в разных странах Европы, говорят на разных, хотя и в чем-то похожих языках и вряд ли ощущают свое родство с прародиной, расположенной на территории современных Австрии, Чехии и Словакии…Книга кельтолога Анны Мурадовой, кандидата филологических наук и научного сотрудника Института языкознания РАН, основана на строгих научных фактах, но при этом читается как приключенческий роман.

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Источник: "Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков", издательство "Наука", Москва, 1972.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.