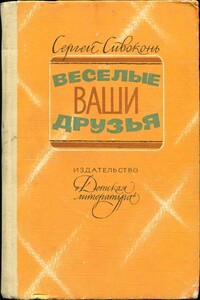К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама - [94]
Думается, что в этом примере механизм работы с идиоматическим языковым планом дал сбой. Хотя мы, если можно так выразиться, способны восстановить семантические интенции стихотворения, исключительно логизированному прочтению оно не поддается (что не мешает ему казаться интуитивно понятным). В пользу нарушения работы отлаженного механизма свидетельствует и тот факт, что сгущение фразеологического плана происходит в самом конце текста. Как мы помним, в других приведенных выше примерах ситуация была обратной: идиоматический план языка обширно вводился и сильно перерабатывался в начале, а дальше стихотворение развивалось на основе уже заданной «вторичной» семантики (ср. «В огромном омуте…», «Вооруженный зреньем…», «Солдата…»). Здесь же смысловой взрыв происходит в конце, и он как таковой нуждается в отдельной интерпретации, и он же вынуждает переосмыслить лексический и смысловой ряд предшествующих строф.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ I I
В этом разделе книги мы проанализировали, каким образом фразеологический план языка определяет семантику стихотворений Мандельштама. Отталкиваясь от «готовых» языковых элементов, поэт сдвигает и переосмысляет их семантику и с помощью возникающих в результате такой переработки образов выстраивает то или иное стихотворение. Не случайно в рассмотренных примерах сгущение фразеологии обнаруживается в начале текста (за исключением стихов «Пароходик с петухами…», в которых отлаженный механизм сбоит).
Кроме того, ряд проанализированных случаев демонстрирует, что подчас самые темные фрагменты поэтического текста Мандельштама (например, фрагменты «Солдата…») прежде всего мотивированы языком и именно благодаря обращению к общеязыковому плану получают, как кажется, непротиворечивую интерпретацию.
Думается, что завязанность поэтики Мандельштама на языковой узус потенциально позволяет пересмотреть роль интертекстуальных построений в изучении творческого наследия поэта. Так, своего рода методологическая пресуппозиция, сформированная в доминирующем интерпретативном сообществе [Fish 1980: 171–173] исследователей – в любом непонятном месте ищи подтекст, – в свете работы Мандельштама с идиоматикой проявляет свою несостоятельность. По нашему убеждению, любое непонятное место того или иного стихотворения в первую очередь требует языкового объяснения. Во многих случаях именно такое лингвистическое толкование проясняет семантику высказывания, и необходимость в интертекстуальном плане, полностью определяющем смысл стихотворения, просто отпадает.
Конечно, это не означает, что интертекстуальный план не важен для Мандельштама, однако позволяет подчеркнуть, что в большинстве случаев претексты и реминисценции связаны с ассоциативным полем того или иного стихотворения, но никак не формируют его смысл, не «шифруют» его.
Думается, что языковой подход, таким образом, дает возможность исправить сложившийся в мандельштамоведении дисбаланс. Вместо великого шифратора литературных текстов, действующего как еще не созданный квантовый компьютер, который неясно для кого и для чего формирует такие высказывания, смысл которых без знания традиции не поддается пониманию, Мандельшам предстает поэтом, ориентированным на язык и смысл.
В самом деле, хотя его читатель, по-видимому, должен обладать некоторыми минимальными культурными и энциклопедическими познаниями для адекватного восприятия стихов, Мандельштам не отбирает читателей по принципу их эрудиции и начитанности в мировой литературе. Нет сомнений в том, что искушенный знаток и условно простой любитель поэзии по-разному прочтут один и тот же текст и он вызовет у них разные литературные ассоциации. Однако литературные ассоциации не гарантируют понимания смысла текста, более того, как показывают некоторые статьи, наоборот, они часто его затемняют (особенно если исходить из того, что без таких ассоциаций смысл текста не поддается формализации).
Установка Мандельштама прежде всего на язык в подлинном смысле слова демократична. Любитель поэзии может получать удовольствие от сложных семантических эффектов, не стараясь их структурировать и развернуто объяснить. Более требовательный читатель может пойти по пути толкования сложного смысла, и стихи Мандельштама открыты и такому подходу. В обоих случаях, однако, от читателя требуется то, чем он в большей или меньшей степени наделен с детства, – чувство языка.
Интерпретация полученных результатов
Хотя описанные выше механизмы работы поэта с фразеологией, как кажется, интересны сами по себе, необходимо проанализировать, чтó наше исследование может объяснить помимо взаимодействия поэтики Мандельштама с идиоматическим планом русского языка. В этом разделе мы сосредоточимся на трех ключевых вопросах: что полученные результаты значат для понимания творчества Мандельштама? Как они соотносятся с поэтическим контекстом? Как рассмотренный нами механизм дает возможность интерпретировать мало исследованную проблему рецепции стихов поэта? Соответственно, эта часть работы делится на три раздела. Сразу оговоримся, что разделы эти неравноценны как по смыслу, так и по объему: если первый коротко подводит итоги, суммируя уже высказанные в работе замечания и соображения, то второй лишь предварительно намечает возможные пути сопоставления одного из аспектов поэтики Мандельштама с контекстом эпохи. Третий раздел предстает самым спорным и предлагает теоретическое осмысление восприятия стихов Мандельштама.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том VIII охватывает развитие мировой литературы от 1890-х и до 1917 г., т. е. в эпоху становления империализма и в канун пролетарской революции.
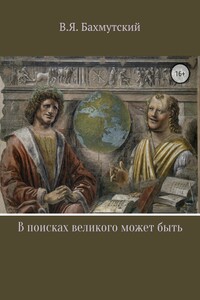
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.