Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература [заметки]
1
Ср. понятия «повторного обретения» («reinvention») (более точный перевод: «переизобретение») и «воссоздания» («re-creation») у Роскиса [Роскис 2010: 19–20]. О феномене «изобретения традиции» см. также: [Hobsbawm 1983].
2
Многозначное понятие постмодерна употребляется здесь (в отличие от главы «Деконструкция империи») не в историко-литературном, а в философском смысле периодизации по Лиотару, а также в значении постструктуралистского отрицания любых целенаправленных мировоззренческих нарративов.
3
Ср. использование у Гельхард работ Гудман-Тау [Goodman-Thau 2002] и Кильхера [Kilcher 1998] в: [Gelhard 2008: 4–9].
4
«…all acts of mediation, negotiation, and translating» [Slezkine 2004: 20].
5
«How does one mediate the past for the world of the present?» [Holtz 1992: 377].
6
«…мидраши и сами становятся текстовым корпусом первого порядка, отдельной полноправной ЛИТЕРАТУРОЙ – поистине священным текстом» [Ibid]. Даниэль Боярин прослеживает такое понимание мидраша на материале от Маймонида до Исаака Хайнемана [Boyarin 1990: 1–11].
7
О возникновении, течениях и различных концепциях интертекстуальности см.: [Smola 2004: 13–42].
8
Как уже упоминалось, Гельхард тоже отмечает связь между еврейской герменевтикой и принципами теории интертекста, не упоминая, однако, работу Боярина [Gelhard 2008: 7–8].
9
Я умышленно использую этот глагол, вызывающий ассоциации с литературой, так как Роскис-исследователь мастерски имитирует стиль своего научного объекта, благодаря чему его книги нередко становятся своего рода художественным повествованием, всегда интересным, а порой и развлекательным.
10
Основанный Дэвидом Роскисом и Аланом Минтцем в 1981 году литературоведческий журнал носит программное название «Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History». Многозначность понятия «prooftexts» («обоснования, доказательства»), связывающего библейскую и литературную традиции и трактующего литературу как комментарий к Библии, следующим образом разъясняется на обложке каждого номера: «Обоснования – это цитаты из Торы, которые раввины использовали для легитимации новых толкований. В качестве названия журнала, посвященного еврейской литературе, слово „обоснования“ подчеркивает важность как литературной традиции, так и современных проблем текстуальности. „Обоснования“ включают в себя литературные подходы к классическим еврейским источникам, изучение современной литературы на иврите и идише, американской и европейской литературы, а также еврейской литературы на других языках».
11
Для этого сборника характерна статья Мирны Золоторевски о субверсивных комментариях Библии у Борхеса [Solotorevsky 1986: 253–264].
12
Ср. о романе Якова Цигельмана «Шебсл-музыкант»: «Постмодернистский мидраш Якова Цигельмана: „Шебсл-музыкант“» (с. 402).
13
Ср. в связи с этим обобщающее понятие «предопределенных форм» («pre-established forms») Аби Варбурга [Hirsch 2008: 120]. Имеется в виду передача воспоминаний, основанных «только на рассказах, картинах или образцах поведения» [Там же: 106].
14
Алия (евр. «восхождение») – у древних евреев путь к иерусалимскому Храму на горе Сион. С началом рассеяния алией стали называть возвращение евреев из изгнания в Эрец-Исраэль, а в настоящее время – репатриацию еврейских эмигрантов в Израиль. Часто используется относительный синоним «исход», обозначающий в книге «Исход» Танаха реальный или выдуманный исход евреев из Египта и освобождение из рабства. В общем понимании «исход» – это выезд евреев из страны изгнания. Оба понятия связывают сегодня еврейскую эмиграцию с библейскими «истоками».
15
Еврейское «галут» (на идише «голус») соответствует греческому «диаспора» (рассеяние), но подразумевает архетипическую для иудаизма ситуацию изгнания, другими словами – чужбину.
16
Алейда Ассман прослеживает, как метафоры сна и пробуждения с начала XIX века становятся традиционным элементом политической риторики революционных и национально-освободительных движений [Assmann 1999a: 169–171].
17
«…avec le judaïsme, j’avais reçu le plus beau cadeau dont puisse rêver un enfant de l’ après-génocide. J’héritais d’ une souffrance que je ne subissais pas; du persécuté je gardais le personnage mais je n’endurais plus l’ oppression. Je pouvais jouir en toute quiétude d’ un destin exceptionnel».
18
Понятие перформативности я вывожу из контекста культурологических дискуссий и практик последних десятилетий, опирающихся на теорию речевых актов Джона Л. Остина (из новейших исследований см. [Юрчак 2014: 62–69; 74 f.]: отталкиваясь от понимания перформативности у Жака Деррида и Пьера Бурдье, Юрчак анализирует прежде всего ритуальность советской действительности). Ключевую роль при этом играет представление о культуре как о возникновении и диффузии фундаментально изменчивых символов и культурных смыслов. По мнению этнолога Клиффорда Гирца, последние инсценируются и вписываются в динамичные социальные контексты, см.: [Bachmann-Medick 1998: 26–30]: «Культура производится и воспроизводится в акте репрезентации» [Ibid: 28].
19
Здесь и далее в тексте с помощью обозначения «f.» (от нем. «folgende») я ссылаюсь на указанную и следующие страницы источника.
20
Ярким примером конструкта коллективной еврейской идентичности, основанного одновременно на дистанции и присвоении, является феномен еврея Восточной Европы, Ostjude, который уже с конца XIX века стал в Восточной и Западной Европе негативной или же идеализированной проекцией рассыпающейся культуры. Моника Рютерс прослеживает пути такого коллективного воображаемого – а его творили как интеллектуалы вроде Семена Ан-ского или Мартина Бубера, так и широкая публика, – вплоть до польского посткоммунизма с его мультимедийно организованным еврейским «возрождением» (jewish revival). Рютерс обращает внимание на роль «медийной трансляции» образа штетла, например, в фотоальбомах Романа Вишняка 1940‐х годов: «Этот мир внутренне не дифференцирован. Он однороден, существует вне времени и полностью погружен в духовное» [Rüthers 2010: 84].
21
Михаил Крутиков связывает революционные преобразования 1905 года с переходом российских евреев, в особенности идишских писателей, от «циклической смены времен года и религиозных празднеств» к «стремительному и линейному развитию» [Krutikov 2001: 115].
22
Ср. сборник, выпущенный в 2012 году Сюзанной Франк, Корнелией Руэ и Александром Шмитцем и в особенности статью Ренате Лахман [Frank et al. 2012].
23
Эта мысль проходит красной нитью в монографии Паперного, она очевидна и в других выводах. Так, архаически-религиозное слияние означающего и означаемого проявляется в сталинской культуре в магической вере в имена собственные [Паперный 1996: 182–191], а также в антропоморфности архитектурных объектов [Там же: 193–194]. «Культура 2 – это тоже в известном смысле культура Книги» [Там же: 230].
24
Паперный метафорически определяет артефакты Культуры Два как дополняющие друг друга толкования Библии [Там же: 228]. Аналогичную параллель проводит Добренко [Добренко 1993б: 231].
25
Ср. о советской культуре как квазисакральной/парасакральной, ритуализированной эстетической практике: [Clark 1981/2000; Günther 1984, Паперный 1996; Гройс 2003; Uffelmann 2010, особ. гл. 8]. Согласно психоаналитической трактовке Эпштейна, религиозное подсознание достигло в русском коммунизме особенной глубины именно под давлением запретов; атеизм нес в себе и порождал новые, сублимированные формы веры [Эпштейн 1994: 347]. «Атеистическое общество буквально кишело религиозными аллюзиями, символами, отсылками, субститутами и трансформациями» [Там же: 335]. Эта трансформированная религиозность напрямую вела к «догматическому невежеству» постсоветского православного возрождения, ср.: [Там же: 380]. О том, имела ли религиозная преемственность при государственном социализме «функциональную» или «генеалогическую» природу, размышляет Уффельманн [Uffelmann 2010: 727 f.].
26
О механизме культурно-семиотических процессов кодирования и сигнификации ср. работу Роланда Познера: [Posner 1991]. Основываясь на концепции центра и периферии московско-тартуской школы, Познер объясняет динамику сменяющих друг друга «семиотизации и десемиотизации сегмента реальности» [Ibid: 57].
27
Ср. главу «Создание гиперреальности» в: [Эпштейн 2005: 69].
28
Ср. также формулировку Тани Циммерманн: «Чем больше конструировалась жизнь, тем реальнее становились объекты искусства» [Zimmermann 2007: 18].
29
В конце 1980‐х годов Борис Гройс исследует те же механизмы семиотического замещения на примере московского концептуализма, которому он приписывает близость к постструктуралистским идеям, а именно идеям Деррида. В понимании Гройса «утопизм советской идеологии и заключается, если угодно, в ее постмодерности» [Гройс 2003: 135]. Для Ильи Кабакова «быт и идеология совпали в бесконечном тексте» [Кабаков 2008: 11]. Ср. также литературно-историческую ремарку Марка Липовецкого: «Парадоксально, но факт: русский постмодернизм возникает внутри тоталитарной культуры» [Липовецкий 2008: ix].
30
О репрезентации Москвы в архитектуре и кино как символического и сакрального центра коммунистического пространства в 1920‐х и 1930‐х годах ср.: [Паперный 1996: 107–115] и [Boym 2001: 97–98].
31
Ср., например: [Баак 1995] и [Вульф 2003]; о степени изученности проблемы и дискуссиях см. резюме Хаусбахер: [Hausbacher 2009: 67–68].
32
Говоря о новом иудаизме и вдохновленной Библией модели репатриации, я, разумеется, имею в виду не всю массу русско-еврейских эмигрантов, а лишь часть из них, но более всего – связанный с ней культурный дискурс.
33
Илья Кабаков связывает «воздух 70‐х годов» с особенной тягой интеллектуалов к метафизическому и трансцендентному [Кабаков 2008: 89–90].
34
Ср. критическое замечание Бориса Гройса: «Единая утопия классического […] сталинизма сменилась […] множеством приватных индивидуальных утопий» [Гройс 2003: 102].
35
Алексей Юрчак объясняет эту гибридность, связанную с открытием альтернативных пространств, почти завершенной ритуализацией и стандартизацией официальных риторических формул и визуальной культуры позднего социализма [Юрчак 2014: 74–75]. Добренко называет, например, позднесоветский военный дискурс «абсолютной победой тавтологии» [Добренко 1993б: 226].
36
О «реорганизации» религиозных сообществ в неофициальном пространстве и роли местных религиозных вождей при коммунизме см. статью Александра Панченко: [Panchenko 2012].
37
В своем влиятельном эссе «Православие и постмодернизм», написанном накануне перестройки и проникнутом религиозно-православным духом, Татьяна Горичева характеризует альтернативные, «полуподпольные» культуры позднего социализма как вертикальные и трансцендентные: «Появление в Советском Союзе „второй“, полуподпольной культуры – одна из попыток по-новому заполнить пропасть. Эта вторая культура с самого начала выходила к трансцендентному, к вертикально-ценностному измерению бытия» [Горичева 1991: 15].
38
В дальнейшем я рассмотрю это влияние на примере молодежного сионистского романа Давида Маркиша «Присказка». В деконструктивистском, метадискурсивном романе Михаила Юдсона «Лестница на шкаф» дискурс деревенской прозы явлен уже в пародийном облачении (подробнее см. «Архаический язык диктатуры: „Лестница на шкаф“ Михаила Юдсона», с. 345).
39
Ср.: «…идея исторической связи разных эпох […] казалась естественной и органичной»; «…феномен деревенской прозы важен не только для литературоведов, но и для будущих историков мифологического сознания как и его живучести в тоталитарных государствах 20 века» [Belaia 1992: 16].
40
С 1960‐х годов литература других национальных меньшинств дышала пафосом буквального возвращения на родину. Это были, например, крымские татары, в нечеловеческих условиях депортированные в 1944 году из Крыма в Среднюю Азию. Людмила Улицкая изображает протестное движение крымских татар, боровшихся за возвращение в Крым, в романе о диссидентах «Зеленый шатер» (2011, см. главу «Милютинский сад»). В самиздате курсировали сочинения как самих крымских татар, так и о них. Задача будущих исследователей – изучить нонконформистские литературы других, менее известных, чем евреи, национальных меньшинств эпохи позднего коммунизма. В романе Улицкой полифонию позднесоветской протестной культуры символизирует прощание с вымышленным диссидентом и поэтом Михой Меламидом, покончившим жизнь самоубийством: «В Ташкенте его почтили татары, отслужили заупокойную службу по мусульманскому обряду. В Иерусалиме единоверцы Марлена заказали кадиш, и десять евреев прочитали на иврите непонятные слова, а в Москве Тамара […] заказала панихиду в Преображенском храме».
41
О ретро-утопической литературе (пост)советского Севера см. с постколониальной перспективы: [Smola 2016] и [Смола 2017a].
42
См. «Направления исследований» (с. 43) и «Современная русско-еврейская литература» (с. 81).
43
То есть советских евреев, которым было отказано в выезде в Израиль.
44
Важный вклад в социокультурное изучение неофициальной еврейской культуры внесли, например, авторы сборника «The Jewish Movement in the Soviet Union» под редакцией Якова Рои [Ro’i 2012].
45
О состоянии иудаизма в позднем Советском Союзе см.: [Charny 2012: 304–333].
46
Показательно дошедшее в пересказе заявление нонконформистского еврейского художника Алека Рапопорта: «Рапопорт считает, что учителями его были не люди, а библиотеки – Публичная библиотека и библиотека Академии художеств» [Газаневщина 1989: 223].
47
Помимо прочего, как раз из‐за своего нееврейского воспитания и урбанизма еврейские интеллектуалы столичного андеграунда часто не проявляли особого интереса к традиционной еврейской жизни, почти исчезнувшей, но все же существовавшей еще где-то по соседству (еврейские праздники и ритуалы, совместные молитвы, посещение синагог).
48
О неофициальном еврейском искусстве см.: [Smola 2018a; Smola 2018b].
49
Две жизни Эфраима Бауха // Живой Журнал. 11 окт. 2015 [https://la-belaga.livejournal.com/821989.html].
50
«Библиотека-Алия» – основанное в 1972 году в Израиле русскоязычное издательство сионистской ориентации, где выходили, кроме прочих, и наиболее важные произведения позднесоветской литературы алии. Некоторые книги из «Библиотеки-Алия» нелегально ввозились в Советский Союз и таким образом становились известны русским, в том числе русско-еврейским читателям.
51
Концепция автоэтнографии восходит к постструктуралистской интерпретации этнологического и антропологического знания, представленной во второй половине ХХ века такими учеными, как Клиффорд Гирц и Джеймс Клиффорд, а также к постколониальным исследованиям, здесь прежде всего к Эдварду В. Саиду с его понятием ориентализма. Эта концепция была в 1992 году введена в научный оборот Мэри Луизой Пратт и описывает ситуацию, в которой субъект и объект этнографического описания совпадают, то есть представлены одним и тем же человеком, культурным сообществом или одной и той же институцией. Таким образом, пишущий/описывающий соединяет перспективу стороннего наблюдателя со свойственной ему претензией на объективность и перспективу представителя коренной культуры, то есть вовлеченного. Иногда такое слияние приводит к интересному для постколониальных исследований раздвоению нарративной субъективности (см.: [Смола 2017a]).
52
Укорененная в еврейской традиции проза Бабеля и Эренбурга удостоена в книге Вайс такого же внимания, что и роман Гроссмана, в котором еврейство предстает прежде всего зеркалом холокоста и советского антисемитизма.
53
Среди многочисленных нелитературоведческих – исторических и социологических – работ о еврейской идентичности следует отметить: [Gitelman 1991; Zipperstein 1999; Jasper 2004; Gladilina/Brovkine 2004; Caspi et al. 2006; Remennick 2004 и 2007].
54
См., в частности, тома, изданные в Гёттингене Институтом им. Шимона Дубнова: «Новые места – новые люди. Жизнь санкт-петербургского и московского еврейства XIX века» Ивонны Кляйнманн (Yvonne Kleinmann, «Neue Orte – neue Menschen. Jüdische Lebensformen in St. Petersburg und Moskau im 19. Jahrhundert», 2006) и «Самоорганизация и гражданственность. Еврейские объединения в Одессе конца XIX – начала XX вв.» Алексиса Хофмайстера (Alexis Hofmeister, «Selbstorganisation und Bürgerlichkeit. Jüdisches Vereinswesen in Odessa um 1900», 2007).
55
Авторы нескольких сборников статей по иудаике последних лет сочетают топографический подход с культурологическим и литературоведческим: ср. «Еврейские топографии. Образы пространства, традиции места» («Jewish Topographies. Visions of Space, Traditions of Place») [Lipphardt et al. 2008]; «Jewish spaces. Категория пространства в контексте культурных идентичностей» («Jewish Spaces. Die Kategorie „Raum“ im Kontext kultureller Identitäten») [Ernst/Lamprecht 2010]; «Еврейские пространства и топографии в Восточной и Центральной Европе. Построения в литературе и искусстве» («Jüdische Räume und Topographien in Ost(mittel)europa. Konstruktionen in Literatur und Kultur») [Smola/Terpitz 2014].
56
«Для строительства своей одесской вавилонской башни Бабель использует идиш, украинский, итальянский, польский и русский языки» [Koschmal 1997: 326].
57
Явления лингвопоэтической интерференции между еврейскими и нееврейскими литературами на территориях диаспоры еще во многом предстоит открыть разным филологическим дисциплинам.
58
См., в частности: [Yerushalmi 1988; Schatzker 1995; Münz 1996; Zipperstein 1999; Lorenz 2002; Heftrich/Grüner 2004; Banasch 2005; Grüner 2006; Woldan 2006; Sandberg 2007; Lipphardt 2008].
59
Алоис Вольдан исследует Львов «как место памяти в польской и украинской литературе». В начале своей работы он отмечает растущий интерес историков и культурологов к местам памяти вообще и к восточноевропейским в частности [Woldan 2006: 323].
60
См., например: [Gitelman 1991 и 2003; Krupnik 1995; Blank 1995; Friedgut 2003; Armborst 2004; Beizer 2004; Рывкина 2005].
61
См., в частности: [Shmeruk 1991; Pinkus 1994; Chernin 1995; Эстрайх 2008].
62
Подробнее о ней см.: [Gitelman 1998].
63
На русском языке работа, написанная в 1983 году, была впервые опубликована в книге «Бабель и другие» (1997).
64
В своих статьях, включая упомянутую, Маркиш нередко выступает с позиций свидетеля и современника, передавая подлинную атмосферу советского литературного быта, в особенности практически незаметное со стороны лавирование между дозволенным и умалчиваемым, не произносимым вслух.
65
Следует также упомянуть работу Клауса-Петера Вальтера [Walter 1985], в которой еврейская тема в русской литературе прослежена с дореволюционных времен до 1980‐х годов. Вальтер рассматривает тексты Семена Юшкевича, Семена Ан-ского, Юрия Либединского, Александра Фадеева, Исаака Бабеля, Ильи Эренбурга, Михаила Козакова, Матвея Ройзмана, Валентина Катаева, Анатолия Кузнецова, Анатолия Рыбакова, Давида Маркиша, Эфраима Севелы, Феликса Розинера и Василия Гроссмана.
66
Я называю только те, что посвящены более чем одному или двум авторам.
67
Уже после написания немецкого оригинала моей работы вышла также монография Романа Кацмана «Ностальгия по далекой стране: Исследования о русскоязычной литературе в Израиле» («Nostalgia for a Foreign Land: Studies in Russian-Language Literature in Israel») [Katsman 2016]. См. мою рецензию: [Smola 2018c].
68
У Гроссмана и Гензелева, и Нахимовски усматривают (прежде всего, в ключевом тексте «Жизнь и судьба») солидарность с русским великодержавным сознанием при условии, что оно не вырождается в шовинизм. Имплицитному гроссмановскому автору евреи оказываются так же близки, как татары, калмыки или немцы. Уродующее влияние советского антисемитизма сводит личность выдающегося ученого Виктора Штрума к его внешности, унижая тем самым его человеческое достоинство, и это трагедия холокоста заставляет Софью Левинтон вдруг ощутить себя единым целым с другими евреями в поезде, везущем их на смерть. Гроссмановский еврейский протагонист ощущает свою национальность лишь под воздействием аномальных, мучительных обстоятельств.
69
Об аналогичных тенденциях в творчестве Бориса Ямпольского см.: [Гензелева 1999: 157–207].
70
Не вполне убедительным или, во всяком случае, требующим уточнения представляется тот вывод, что Канович, апеллируя к еврейской культурной памяти, подрывает систему ценностей социалистического реализма [Terpitz 2008: 248]. Типичный для прозы Кановича акцент на общечеловеческих и вневременных ценностях («conditio humana») [Ibid], которые, согласно авторскому замыслу, всегда по-хорошему нивелируют национальные различия, некоторая доля морализма, а также нередкое разделение персонажей на положительных и отрицательных (причем основополагающей оказывается проблема морального выбора героя) – все это роднит творчество Кановича со стилистикой советской литературы, позднего, «мягкого» соцреализма. Сказанное никак не противоречит тому факту, что в своих произведениях Канович изображает исключительно еврейство.
71
В эмигрантской прозе Григория Кановича русско-литовская и израильская культуры оказываются, наоборот, противоположны: «Израиль почти всегда предстает у него местом обманутых ожиданий» [Parnell 2006: 163]. Впрочем, в более ранней статье о творчестве Кановича [Парнелл 2004б] Парнелл показывает, что свою «аутентичную» родину, Литву, писатель тоже ассоциирует со смертью и ностальгическим миром воспоминаний, которым предаются в основном старики. Центральный топос кладбища и повторяющийся мотив разговора с умершими, а также исчезновение реального мира, замещение его миром фантомов из прошлого подтверждают характерную для Кановича идею глобальной еврейской бесприютности.
72
Впрочем, соответствующая часть почти полностью посвящена разбору статьи Любриха [Lubrich 2005], к заглавию которой и отсылает этот вопрос.
73
Попытка исследовать этот вопрос предпринята в: [Smola 2013a].
74
Хаусбахер противопоставляет понятие «постколониальность» термину «постколониализм» как «метафорический» и «внеисторический» способ описания культуры миграции.
75
Из числа полностью ассимилированных русско-еврейских авторов Крутиков исключает только Григория Кановича [Krutikov 2003: 265–267].
76
Согласно ностальгическому выводу Маркиша, русско-еврейская литература эмиграции, будучи перенесена на другую культурную почву, скорее творит нечто новое, нежели продолжает традиции. В связи с творчеством высоко ценимого им Фридриха Горенштейна исследователь провокационно спрашивает: «…в какой мере принадлежит к русско-еврейской литературе обитатель Берлина еврейского происхождения, пишущий по-русски?» [Там же: 208].
77
Суть этого явления остроумно сформулировал Сергей Довлатов: «В сущности, еврей – это фамилия, профессия и облик» [Довлатов 2003: 437].
78
О новом расцвете литературы на идише после смерти Сталина см.: [Estraikh 2008; Эстрайх 2009]; о русско-еврейской и идишской литературе советского периода см.: [Murav 2011].
79
Например, романы и повести «Когда река меняет русло» (1927) Леона Островера, «Граница» (1935) Матвея Ройзмана, «В степи» (1938) Семена Левмана или «Дети еврейской коммуны» (1931) Лины Нейман.
80
Как мы уже видели и увидим далее, в неподцензурной и постсоветской еврейской прозе этот образ полностью перетолкован: так, в произведениях Юрия Карабчиевского, Марка Зайчика и Людмилы Улицкой религиозно образованный дед играет ключевую роль в важном для героя процессе возвращения к еврейским ценностям.
81
Ср. идишское издание, вышедшее в том же издательстве «Советский писатель» тремя годами ранее: Shemuel Gordon, «Friling. roman, dertseylungen, rayze-bilder». Moskve, 1970.
82
В оригинале «Блаженны находящиеся в доме Твоем».
83
Примером относительно недавнего исследования, учитывающего такую сложность, является обширная монография Марата Гринберга о Борисе Слуцком [Grinberg 2011]. Хотя Гринберг и исследует скрытый (и бывший до сих пор таковым во многом для читателя) художественный мир еврейства у Слуцкого, в основе его подхода лежит интегральный взгляд на творчество поэта, нацеленный на выявление связи между его официальными – более того, эксплицитно советскими – и неопубликованными (частично антисоветскими) текстами. Безусловно, такая перспектива отражает характер творчества самого поэта: в главе книги Гринберга о Яне Сатуновском показано, что литераторы Лианозовской школы видели в Слуцком своего рода связующее звено и посредника между андеграундом и официозом [Ibid: 355–376].
84
Один из примеров – монография Доротеи Гельхард [Gelhard 2008], в заключительной главе которой постколониальные понятия мимикрии, гибридности и «третьего пространства» применяются к текстам немецко-еврейских авторов [Ibid: 190–225]. Следует упомянуть и сборник [Brunotte et al. 2015], в центре которого находится проблема немецкого антисемитизма как проявления ориентализма (см. там также актуальную библиографию еврейских исследований, использующих постколониальный подход и проверяющих его на прочность).
85
Предварительные шаги в этом направлении предприняты мною в: [Smola 2018b].
86
В последние 40–45 лет русско-еврейские писатели творили не в последнюю очередь историографический «контрканон» советской эпохи. В создаваемой в их текстах картине, нередко автобиографичной или отмеченной чертами семейной истории, пересматриваются официальные исторические нарративы, документируются погромы, крах биробиджанского проекта, введение «пятого пункта» в советском паспорте в 1930‐е годы («национальность»), учреждение и кровавая ликвидация Еврейского антифашистского комитета, арест и убийство важнейших идишских поэтов в конце 1940‐х годов, полное закрытие в 1950‐х годах еврейских школ и культурных учреждений, кампания против «космополитизма», «дело врачей» и история эмиграции с двумя ее крупнейшими фазами, 1970‐х и 1990‐х годов. Нередко эта литературная историография охватывает продолжительный период, включая дореволюционную жизнь российских евреев, часто бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек автора и рассказчика, еврейскую участь при ранней советской власти, в годы войны, холокоста и в позднесоветское время. Историческая рефлексия неизменно «затрагивает державшееся под замком […] прошлое» [Heftrich/Grüner 2004: 25], а появившиеся еще при советской власти тексты стремятся оспорить «монополию режима на интерпретацию прошлого» [Grüner 2006: 91].
87
В новейшее время стали опять появляться тексты, которые демонстрируют обратное движение – к закрытым, обращенным в прошлое моделям национальной и религиозной идентичности (см. подробнее «Сионистское почвенничество: новейшие литературные проекции», с. 305). Это мало удивляет в контексте правоконсервативного политического поворота 2000–2010‐х годов.
88
Первой классификацией русско-еврейской литературы, в которой проза исхода рассматривается как самостоятельное литературное течение, стала изданная Максимом Д. Шраером в 2007 году двухтомная англоязычная антология [Shrayer 2007].
89
Такая рестриктивная формулировка объясняется подчас скептическим и даже пессимистическим тоном по-прежнему актуальной дискуссии: сомнениями в том, что некогда вытесненная или уничтоженная еврейская культура еще существует в современной России.
90
Позиции Нахимовски и Маркиша в этой дискуссии критически разбирает Маркус Вольф [Wolf 1995].
91
Ср. статьи «Русско-еврейская литература» в «Краткой еврейской энциклопедии» и в «Электронной еврейской энциклопедии».
92
За исключением концепции Маркиша (см. ниже).
93
Ср.: «Какими бы амбициозными ни были эти критерии, в послереволюционной русско-еврейской культуре их можно применить лишь к исключениям» [Terpitz 2008: 67].
94
В качестве яркого примера часто приводятся произведения Исаака Бабеля. Конечно, и позднесоветская литература, например, творчество Бориса Слуцкого, обнаруживала свою еврейскую культурную сущность – в форме «цитат, интерпретации источников, перечитывания, смещения акцентов, аллюзий, интертекстуальности и рефлексии культурной памяти» [Grinberg 2011: 29].
95
На социопатологическом уровне этот навязанный взгляд на себя анализирует Александр Мелихов в романе «Исповедь еврея»: хроническому замалчиванию собственной идентичности противостоит здесь сам жанр исповеди, предполагающий безусловное самооткровение (см. «Постколониальный mimic man: „Исповедь еврея“ Александра Мелихова», с. 370).
96
О теории гетеростереотипа и автостереотипа см. в: [Hahn 2007].
97
Религиозные или восходящие к архаическим верованиям корни советского коммунизма были достаточно исследованы за последние десятилетия (см. Введение), в частности, Александром Эткиндом [Эткинд 1998] и Михаилом Вайскопфом [Вайскопф 2001а]. Эткинд, исследующий секты как проявление религиозного диссидентства, рассматривает дух советского тоталитаризма – апокалиптически-эсхатологический, революционно-хилиастический, вдохновленный идеей всеобщего спасения под руководством харизматического вождя, – в контексте долгой истории радикального религиозного инакомыслия в России. Этот дух был издавна присущ российской интеллектуальной мысли, что нашло отражение, например, в философии Николая Федорова с его идеей воскресения и бессмертия [Эткинд 1998: 23–24].
98
Вот как Илья Кукулин описывает феномен включения и метафоризации евреев (как «своих чужих») в русско-советском коллективном сознании: «Еврейское самосознание было репрессировано иначе и воспринималось иначе, чем национальное самосознание многих „союзных и автономных республик“ […]. Табу на обсуждение „еврейских проблем“ воспринималось (и воспринимается) как проблема в значительной степени внутри русской культуры, а почти все остальные табу в области национальной идентификации – как существующие на границах этой культуры. Еврейство как преследуемое меньшинство стало источником общекультурно-значимой метафорики» [Кукулин 2003].
99
О конструкте «внутреннего Другого», разработанном Цветаном Тодоровым, и о связи сексуальности и национализма см. также в: [Weigel 1994]. Обобщенно о комплексе «женственность и еврейство» см. также в: [Schößler 2008: 41–42].
100
Как явствует, например, из критического анализа, предпринятого Александром Мелиховым в очерке «Биробиджан – земля обетованная», это намерение выразилось, помимо прочего, в идее создания Еврейской автономной республики в Биробиджане: «…стараясь от Москвы до самых до окраин в зародыше истребить всякую тень национального сопротивления, романтический большевизм в двадцатые-тридцатые годы […] стремился одновременно и растворить, и обособить евреев. Вплоть до того, чтобы соорудить новый Сион уже не на Ближнем, а на Дальнем Востоке, предоставив евреям новую социалистическую родину – Биробиджан, чтобы рассеянное еврейство могло обернуться обычной национальной единицей, вроде Чувашии или Карачаево-Черкесии» [Мелихов 2009: 8–9]. Здесь важна мысль о навязчивом желании советской власти «нормализовать» и «адаптировать» еврейство благодаря созданию республики на Дальнем Востоке [Там же: 9]: центральная для постколониального аналитического подхода идея контроля, пространственного обособления и гомогенизации меньшинства здесь хорошо просматривается.
101
Правда, многие рожденные после шоа европейские евреи в целом соответствуют этим характеристикам, о чем, в частности, свидетельствует высказывание Максима Биллера: «Но у нашего еврейства не было никакой собственной сущности, все оно сводилось к определенной манере смеяться, думать, противоречить, рассказывать истории и пить чай сквозь кусочек рафинада» (цит. по: [Heuser 2011: 115]).
102
Слезкин метафорически делит народы на «аполлонийские» (большинство, живущее земледелием, скотоводством и войной) и «меркурианские» (меньшинство, занимающееся торговлей и оказанием услуг). Исторически меркурианский образ жизни отличался (прежде всего у евреев) мобильностью, а сами меркурианцы – способностью извлекать пользу из своей образованности и гибкости.
103
Как показывает, например, публикация «Истории жизни евреев в Советском Союзе» [Arend 2011], такое положение дел отражается и в самоописаниях советских евреев. Вот как автор, Ян Аренд, комментирует истории жизни интервьюируемых: «Сознание собственного еврейства возводится здесь к опыту общественного и политического антисемитизма. Еврейство описывается как нечто определенное средой, а не как внутренняя идентичность. Противопоставление внутреннего, самостоятельно определяемого еврейства и еврейства внешнего, определяемого другими, образует важнейшую смысловую структуру этих рассказов» [Ibid: 49].
104
Об общих признаках потенциальной субверсивности, которые приписывались евреям и бродягам в эпоху Fin de siècle, – «вероятном отсутствии патриотизма и слабом признании авторитетов», см.: [Hödl 1997: 158–160].
105
См. об этом «Постколониальный mimic man: „Исповедь еврея“ Александра Мелихова», с. 370.
106
Показательно, что сам Визель часто использует в своем témoignage советско-еврейской жизни психологически и эмоционально окрашенные выражения, такие как «ne reint pas» («не смеются»), «ne se confient pas» («никому не доверяют»), «ne se réjouissent pas en public» («не радуются прилюдно») [Wiesel 1966: 25], «la tristesse» («печаль») [Ibid: 33], «la solitude» («одиночество») [Ibid: 79]. В его изображении единственным оазисом радости и свободы для евреев становится праздник Симхат-Тора, см.: [Ibid: 50–62].
107
Психолог Александр Кантор пишет о еврейской «выученной беспомощности» («learned helplessness») и хронических негативных переживаниях, например, депрессиях или фундаментальных экзистенциальных страхах [Кантор 2000].
108
Юрий Слезкин указывает на «хитроумие» – «главное оружие слабого» – как на исторически сложившееся качество «меркурианских» народов, прототипом которых выступает Гермес (Меркурий) или Одиссей [Слезкин 2005: 43]. «Хитроумие» здесь и чужой конструкт, и образ себя. Он описывает «меркурианцев» на основании их способности (которая оказывается стратегией выживания) передавать и обменивать такие не вполне осязаемые меновые ценности, как знания и деньги: «…меркурианцы используют слова, деньги, понятия, эмоции и другие неосязаемые объекты в качестве инструментов своего ремесла» [Там же: 44].
109
О семиотике коллективного образа еврейского тела в Европе (например, о значении «глаз», «телосложения», «волос», «запаха» и др.) см. в: [Livak 2010: 88–101] и [Hödl 1997: 105–232].
110
См. о романе воспитания Давида Маркиша «Присказка» («Воспитание нового еврея: „Присказка“ Давида Маркиша», с. 177).
111
См. [Bland-Spitz 1980] и особенно цитату Леона Ленемана [Ibid: 190]. О распространении мифологизированных образов евреев в устных и письменных источниках дореволюционной России пишет Ливак: «Насаждаемый духовенством образ „евреев“ основывался не только на евангелиях, но и на дидактических рассказах (exempla), проповедях, житиях, апокрифах и антииудейских трактатах (жанры adversus Iudaeos)» [Livak 2010: 12].
112
Несмотря на то, что происхождение этого понятия от термина мимесис и существующие со времен античности культурные и особенно художественные коннотации делают естественно-научное (биологическое) употребление как раз вторичным (о «диалоге между дисциплинами» по вопросам теоретического использования пары терминов «мимесис/мимикрия» см.: [Becker et al. 2008: особ. 12–13]).
113
В междисциплинарных исследованиях последних лет феномену мимикрии уделяется немало внимания, например, в проекте Цюрихского университета «Имитация – ассимиляция – трансформация» (2010–2014): «Проект посвящен литературоведческому, историческому и философскому исследованию роли категорий имитации, ассимиляции и трансформации в различных эпистемологиях, семантиках и практиках присвоения». Это предполагалось продемонстрировать, в частности, на примере «еврейской ассимиляции, (пост)колониальной аутентичности и этнографической репрезентации» (http://www.iat.ethz.ch, дата обращения: 18.02.2014; в настоящее время сайт недоступен). При этом часть проекта была посвящена теме «Мимикрия, аутентичность и политическая эмансипация: противоречивые дискурсы ассимиляции в колониальной Индии (ок. 1860–1930)» (http://www.iat.ethz.ch/research/projects/TeilprojektA, дата обращения: 18.02.2014; в настоящее время сайт недоступен). Однако уже в 2005 году во Франкфуртском университете им. Гёте прошла конференция на тему «Мимикрия/мимесис. Опасная роскошь между природой и культурой», по результатам которой в 2008 году был выпущен одноименный том, см.: [Becker et al. 2008].
114
Начатый Ханной Арендт научный дискурс о тайной, или двойной, идентичности евреев диаспоры развивает Сандер Л. Гилман в известном исследовании «Еврейская ненависть к себе. Антисемитизм и тайный язык евреев» [Gilman 1986].
115
Подробнее об этом см. в: [Smola 2011c]).
116
Что приводило порой к политическим процессам (ср., например, «дело переводчиков» в 1938 году. См. об этом также в: [Murav 2011: 290]).
117
Литературность этой характеристики Слезкина мы здесь обсуждать не будем.
118
В известном исследовании эзопова языка в русской литературе Лев Лосев [Loseff 1984], к сожалению, затрагивает тему переводов лишь вкратце.
119
Помимо евреев, от гонений и дискриминации советского времени пострадали поволжские немцы, крымские татары, ингуши и чеченцы, в первые годы после войны подвергшиеся репрессиям и депортации. Так, Ефим Эткинд пишет в связи с неисполненным сталинским намерением 1950‐х годов выселить евреев в Сибирь: «Опыт уже был: два миллиона поволжских немцев, сотни тысяч крымских татар, чеченцев и ингушей уже были депортированы в Сибирь» [Etkind 2002: 17]. О концепции многонациональной советской литературы, прежде всего о советских днях культуры – так называемых декадах, на фоне массовых депортаций кавказских народов размышляет Семен Липкин в романе «Декада», о котором еще будет сказано далее (см. с. 225).
120
Об особом случае еврейской «республики» в Биробиджане в позднесоветские годы см. с. 226–235.
121
Ср. у Нахимовски: «Исторический факт: сложившаяся система ценностей подталкивала многих писателей, особенно евреев, к работе над переводами, а при случае и к использованию их в качестве прикрытия для оригинального творчества» [Nakhimovsky 1992: 183]. Переводчик и современник эпохи Виктор Топоров превратил это в острóту: «…неевреи в своей совокупности составляли в переводе нацменьшинство или, если угодно, образовывали „малый народ“» [Топоров 1999: 177].
122
Требовалось прежде всего владение русским литературным языком: надо было доказать высокий художественный уровень литературы «малых народностей» и сделать ее органической частью русско-советской литературной продукции.
123
После Октябрьской революции евреи, как и другие народы молодого Советского Союза, получили статус советского национального меньшинства. В раннесоветский период большевики не раз пытались закрепить их на определенной территории, например в Крыму, на Украине и в Белоруссии (там создавались еврейские поселения), и побудить развивать социалистическую культуру на идише в определенных географических регионах (см.: [Weinberg 1995]). Цви Гительман упоминает, что Михаил Калинин, выступая на одной конференции, даже предостерегал еврейских новопоселенцев от смешения с другими народами, например от браков с неевреями, так как это помешало бы развитию собственно еврейской культуры [Gitelman 1988: 150]. В 1928 году советские евреи получили собственную территорию на Дальнем Востоке, в Биробиджане, где в 1934 году была провозглашена Еврейская автономная область – «номинально еврейская территориальная единица» [Ibid: 160]. Однако биробиджанский проект потерпел и хозяйственный, и культурный крах. Развитие национальной еврейской культуры было там невозможно уже потому, что многие еврейские функционеры были объявлены врагами народа, арестованы и расстреляны в ходе сталинских чисток 1930‐х годов. Удушливую атмосферу биробиджанской «еврейской республики», упадок еврейской культуры и лживость заявлений об автономности еврейства разоблачил Яков Цигельман в своей повести «Похороны Мойше Дорфера» (1981), подробнее см. «Яков Цигельман: „Похороны Мойше Дорфера“» (с. 226). Биробиджанский проект почти с самого начала противоречил стремлению властей нивелировать национальные различия и, в частности, ассимилировать еврейское население. Евреи остались рассеянными; начавшаяся с Хаскалой тенденция к еврейской урбанизации, ассимиляции и аккультурации в Советском Союзе только усилилась. В результате сложился особый тип воспитанного на русской культуре советско-еврейского интеллектуала, которого как раз и вывел в образе Аарона Финкельмайера Феликс Розинер. В этом контексте Нахимовски описывает идентичность советского еврея – об этом уже говорилось выше – как русского интеллигента и нередко нонконформиста.
124
Верена Дорн пишет в связи с поэтикой Исаака Бабеля о вуайеризме и «автомистификации вплоть до мимикрии», объясняя эту тенденцию исторически: «У русских евреев […] принято было таиться. В царской России приходилось прятаться от налогов, от рекрутской повинности, из‐за ограничений свободы поселения […], а в революционном Советском Союзе – из‐за всеведущего политического контроля» [Dohrn 1999: 190].
Другой вариант еврейской «конспирации» я рассмотрю на примере романа Давида Шраера-Петрова «Герберт и Нэлли»: караимы отказываются признавать свое сродство с евреями, подчеркивая вместо этого близость к мусульманам: «А караимов не расстреляли, потому что караимы – не евреи. Мы ближе к туркам. Что-то вроде мусульман», – говорит старуха из Тракая [Шраер-Петров 2014: 188].
125
Об этой традиции см. «Переизобретение еврейского повествования» (с. 269).
126
О понятии «пережитки» в советской (культурной) политике в Средней Азии и на Кавказе см.: [Абашин 2015: 11 f.].
127
Липкин вспоминал, как из‐за выполненных им переводов тюркоязычного эпоса Союз писателей обвинил его в 1949 году в симпатии к депортированным «народам-предателям». Он отделался предостережением только потому, что за него вступились влиятельные Александр Фадеев и Константин Симонов (см. [Липкин 1997] и [Немзер 2008: 703]).
128
О том, насколько явно тема интернационализма в Советском Союзе подчас оттеснялась на периферию канона, свидетельствует часто цитируемый эпизод биографии Липкина. В 1967 году он опубликовал в двух известных журналах стихотворение «Союз». В этом тексте превозносится неизвестный малый азиатский народ И. Стихотворение появилось в период бурной антисионистской травли, развернувшейся в советской прессе после победы Израиля в Шестидневной войне. Липкина обвинили в сионистской пропаганде и подвергли преследованиям. Он вспоминал: «Черт попутал меня прочесть сборник эпических поэм Южного Китая. Среди создателей поэм был народ, чье название меня поразило: И. Подумать только, целый народ вмещается в одну букву! Я написал стихотворение „Союз“. […] Но газета „Ленинское знамя“ заявила, что речь идет об Израиле. Меня обвинили в сионизме. Газету поддержали книги вроде „Фашизм под голубой звездой“. Возражения синологов, что на юге Китая действительно существует народ И (кстати, гонимый тогда Мао Цзе-дуном), […] не могли ни в чем убедить моих преследователей» (Липкин С. Странички автобиографии [https://biography.wikireading.ru/hGcsgXAL8K]). Стихотворение, в котором Липкин романтически восславил безвестную народность, тем самым по-своему выразив советскую идеологию поощрения малых народов и культур, оказалось воспринято как подрывная, «типично еврейская» мимикрия с целью высказать запрещенные политические взгляды.
129
Напомню, что со второй половины 1960‐х годов в русской литературе – как неподцензурной, так и официальной – все более явственно стали поднимать проблему культурного существования «малых» народов Советского Союза. Первые рассказы крымско-татарского автора Эрвина Умерова, в которых изображаются преследования и депортации крымских татар, были написаны в 1960‐х, а опубликованы в 1990‐х годах. Киргиз Чингиз Айтматов в своем романе «И дольше века длится день» (1981) корректирует и одновременно подрывает генеральную линию социалистического реализма, противопоставляя примордиальную этническую память казахов и общую амнезию позднесоветского общества, а русский Анатолий Приставкин пишет в те же годы повесть «Ночевала тучка золотая», в которой впервые затрагивает тему изгнания и принудительного переселения чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году (публикация стала возможной лишь в конце 1980‐х годов). Много позже, уже во второй половине 1990‐х годов, был написан роман «Божья матерь в кровавых снегах» хантыйского/остяцкого писателя Еремея Айпина (остяки – старое название хантов): Айпин рассказывает о жестоко подавленном Красной армией восстании остяков 1933–1934 годов и почти полном истреблении этого народа (см. [Smola 2016; Смола 2017a]). Хотя с хронологической, структурной и стилистической точек зрения эти тексты и их авторы занимают разное положение по отношению к доктрине соцреализма – от нонконформизма до веры в человечность канона, – все они в данный период творят контекст этнической эмансипации. Расшатывание и подрыв канона, тема Другого проявляются по-разному и имеют разную идеологическую окраску. Галина Белая называет 1960–1970‐е годы периодом саморазрушения советской литературы («self-destruction») [Belaia 1992: 1].
130
О Джамбуле Джабаеве как о советском Gesamtkunstwerk см. сборник статей: [Богданов/Николози 2013].
131
В основу этой главы легла моя статья [Smola 2011c]. Кроме того, я отсылаю к главе «Империя перевода» («Translating Empire») монографии Харриет Мурав того же года [Murav 2011: 285–318]. Ее анализ липкинского перевода киргизского эпоса «Манас» (1948) важен для моей интерпретации «Декады» как неявного исторического свидетельства о позднесоветской еврейской контркультуре: «В „Манасе“ Липкин находит опосредованное (через Коран) влияние истории Исхода. […] Его трактовка […] выдает его собственную приверженность сионистскому идеалу, и в то же время близость киргизскому эпосу он выражает именно как еврей. Перевод „Манаса“ на русский язык был способом перевести собственные еврейские проблемы в доступную литературную форму» [Ibid: 305]. С этой точки зрения переводческую и писательскую работу Липкина можно интерпретировать как одно из многочисленных воплощений эзопова языка в советской культуре.
132
Социокультурные изменения в советском еврействе после 1953 года уже анализировались в ряде работ, поэтому я ограничиваюсь здесь лишь существенными пунктами (см., в частности: [Gitelman 1988: 268–294; Nakhimovsky 1992: 32–38; Terpitz 2008: 29–59; Ro’i 2012]).
133
Новейший обзор научной литературы, посвященной влиянию Шестидневной войны на самосознание советских евреев, см. в: [Cantorovich/Cantorovich 2012: 133]; кроме того, Шестидневной войне посвящен том [Ro’i/Morozov 2008].
134
Ярон Пелег рассматривает Шестидневную войну как поворотную точку в формировании идеала мужественности «нового» израильтянина, «процессе маскулинизации»: «…воинственные, агрессивные черты нового еврея, начавшие культивироваться еще в Европе и мигрировавшие в Израиль вместе с пионерами сионизма, […] стали определять облик израильских мужчин более, чем какая-либо другая черта» [Peleg 2015: 184].
135
Впрочем, Нахимовски пишет, что еврейская самиздатская деятельность, особенно в удаленных от центра власти прибалтийских республиках, возникла уже в конце 1950‐х годов (в Риге – в 1957 году); в частности, там распространялись книги Владимира Жаботинского и Шимона Дубнова [Nakhimovsky 1992: 34–35].
136
Переворот, вызванный в мировоззрении советских евреев Шестидневной войной, описывает Яков Рои [Ro’i 2008].
137
См. об этом главу «1970‐е годы – забвение коммунистической перспективы» в монографии Екатерины Сальниковой [Сальникова 2014: 284–293].
138
В отличие от нонконформизма как позиции – куда более гибкой, лавирующей между сферами официального, полуофициального и неофициального.
139
«Не подлежит сомнению, что в умах своих нееврейских соотечественников евреи ассоциировались с Израилем» [Ro’i 2008: 256].
140
Ср. также меткую формулировку Эли Визеля: «Противоречивая политика. В результате проблема сохраняет свою остроту. Еврею нельзя быть ни евреем, ни неевреем» [Wiesel 1966: 99].
141
Применительно к советскому еврейству понятие ассимиляции гораздо чаще используют для того, чтобы подчеркнуть утрату этнических традиций. Сами еврейские интеллектуалы тоже считали себя ассимилированными, как видно, в частности, из свидетельств Эфраима Севелы (см. далее).
142
Переклички между диегезисом в произведениях очень разных еврейских авторов выражаются в упоминании аналогичных событий, фактов и впечатлений: дискриминации персонажей на службе или в учебном заведении из‐за указанного в паспорте или явствующего из имени и/или внешности еврейского происхождения; травли евреев на улице, в общественном транспорте или в школе накануне и во время «дела врачей» 1953 года; доносов на работе, начавшихся после подачи заявления на выезд в Израиль и др. В этом смысле такие произведения, как «Свежо предание» (1962) Ирины Грековой, «Пятый угол» (1967) Израиля Меттера, «Некто Финкельмайер» (1975) Феликса Розинера, «Псалом» (1975) Фридриха Горенштейна, «Остановите самолет – я слезу!» (1975) и «Мама. Киноповесть» (1982) Эфраима Севелы, «Герберт и Нэлли» (1984) Давида Шраера-Петрова, «Лестница Иакова» (1984) и «Оклик» (1991) Ефрема Бауха, «Исповедь еврея» (1993) Александра Мелихова, как бы образуют единый квазиисторический гипертекст.
143
См., в частности: [Щаранский 1999; Воронель 2003а; Лазарис 1981; Bland-Spitz 1980; Armborst 2001, 2004; Pinkus 1994; Govrin 1995; Телушкин 1997: 383–392; Friedgut 2003; Beizer 2004; Gitelman 1988: 268–292]. Особо стоит упомянуть изданный Яковом Рои том «Еврейское движение в Советском Союзе» («The Jewish Movement in the Soviet Union») [Ro’i 2012].
144
Изучение автобиографий и мемуаров еврейских активистов и отказников лишь начинается: см., например: [Hoffman 2012].
145
Лора Бялис документирует историю движения отказников в фильме «Refusenik» («Отказник», 2007), в котором говорят участники, свидетели и историки борьбы за исход. В этом фильме заметны черты романтической героизации эпохи и ее акторов.
146
Развитие еврейского самиздата прослеживают Стефани Хоффман, Беньямин Пинкус и Энн Комароми [Hoffman 1991; Pinkus 1994; Komaromi 2012b].
147
К этой дилемме, например, обращается герой рассматриваемого далее романа «Герберт и Нэлли» – многолетний «мученик» движения отказников Герберт Левитин.
148
Как пишет, в частности, Владимир Лазарис, еврейские активисты часто отказывались служить в Советской армии, так как знали, что это может стать дополнительным поводом для первого (или повторного) отказа в выезде в Израиль. Власти обосновывали отказ тем, что в силу своей прежней профессиональной деятельности или военной службы податель заявления владеет важными государственными тайнами и может выдать их иностранным спецслужбам [Лазарис 1981: 76 f.].
149
Беньямин Пинкус упоминает исторические исследования, посвященные петербургским евреям, синагогам и еврейским кладбищам Петербурга [Pinkus 1994: 31].
150
По этому поводу Яков Рои пишет: «Группа московских отказников – Владимир Престин, Павел Абрамович, Вениамин Файн, Иосиф Бегун и Леонид Вольвовский – пришла к убеждению, что было „иллюзией думать, будто стоит только открыть ворота, как […] два миллиона евреев отправятся в Израиль. […] Для того чтобы пробудить в ассимилированных евреях еврейское самосознание, решили мы, надо вести среди них образовательную работу. Мы стали распространять знания о еврействе: самиздат, книги, кассеты и так далее“» [Ro’i 2012: 108]; Рои цитирует статью Беньямина (Вениамина) Файна «Истоки современного еврейского культурного движения в Советском Союзе» («Background to the Present Jewish Cultural Movement in the Soviet Union»), напечатанную в сборнике «Еврейская культура и идентичность в Советском Союзе» («Jewish Culture and Identity in the Soviet Union», 1991).
151
Список периодических изданий и издательств см. в: [Русская литература в Израиле].
152
См.: Писатель Давид Маркиш: «Читайте литературу, а не макулатуру…» // STMEGI – Еврейский информационный портал. 21 июня 2018 [https://stmegi.com/posts/59862/pisatel-david-markish-chitayte-literaturu-a-ne-makulaturu-/].
153
Подробнее см.: Эфраим Севела – писатель, кинематографист и гражданин мира // Cogita!ru. 30 августа 2013 [http://www.cogita.ru/pamyat/in-memorium/efraim-sevela-2013-pisatel-kinematografist-i-grazhdanin-mira].
154
См.: Кандель Феликс // Электронная еврейская энциклопедия [https://eleven.co.il/jewish-literature/in-russian/11948/].
155
См.: [Топоровский 2010].
156
Понятие мировой сионистской (как и еврейской) литературы подводит к не утихающим в последние двадцать лет спорам о понятии «всемирной/мировой литературы», world literature (см., например, концептуальные публикации [Damrosh 2003] и [Thomsen 2008]). Для меня в этом обозначении – всегда несколько метафорическом – важнее всего такие признаки, как транснациональность и многоязычие литературы, которая на протяжении столетий создавалась или циркулировала на разных языках в разных частях света и развивала сопоставимые мотивы, тропы и сюжетные конфигурации, несшие в себе проблематику «своего» и «чужого» (в связи с чем можно говорить о топографическом передвижении и некоторой телеологии, заключенных в вышеупомянутом термине). О славянских транслингвальных литературах как о всемирных литературах см. недавнее исследование [Hitzke/Finkelstein 2018].
157
Такое мистически окрашенное понимание алии, характерное для всего творчества Бауха (оно, например, организует его более поздний роман «Оклик» 1991 года), противопоставляется в книге меркантильным побуждениям других еврейских эмигрантов: «В ОВИРе соплеменники Кардина толпились, уточняя сроки отъезда. Крикливое большинство делилось между собой сведениями об Америке, Канаде, Австралии, выбирая будущее место жизни по принципу базара. На отъезжающих в Израиль смотрели с жалостью и даже несколько свысока» [Баух 2001: 533]. Бауховские же герои, напротив, романтически готовы разделить судьбу Израиля, даже принести себя в жертву. О деромантизации советской алии в произведениях русско-еврейских репатриантов см. «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии» (с. 241).
158
Поскольку по правилам еврейского письма буквы (аин, цади, каф, хоф, реш) читаются справа налево, то складываются они в данном случае именно в такой буквенный ряд
159
Баух передает здесь интерпретацию формы еврейской буквы, важную и для христианской каббалы, для которой, как пишет Марина Аптекман, был характерен «лингвистический мистицизм» [Aptekman 2011: 29]: «…большинство христианских каббалистов XVI столетия были убеждены в том, что иврит – это божественный язык творения, наделенный созидательной силой, которая скрывается в буквах и звуках, часто непонятных простым смертным. Они верили, что, как только люди поймут творческий смысл этих букв, […] религиозный мир и всемирное единение не заставят себя ждать» [Ibid: 28].
160
Характерно, что в качестве примера «альянса власти и забвения» в эпоху модерности Ассман упоминает сюжет романа Джорджа Оруэлла «1984» и приводит цитату: «История остановилась. Есть лишь вечное настоящее, в котором партия всегда права» [Ассман 2004: 77].
161
У еврейских пророков многократно упоминается окончательное возвращение евреев на Святую землю по воле Господа. Видение воскресения мертвых «дома Израилева» и их переселения с чужбины в «землю Израилеву» содержится в книге пророка Иезекииля [Иез. 37:1–14].
162
Время накануне смерти Сталина часто ассоциируется у еврейских авторов с историей Эсфири и чудесного спасения евреев, в частности, в рассказе Людмилы Улицкой «Второго марта того же года» (1994) или повести Марка Зайчика «В марте 1953 года» (1999).
163
Эпоха борьбы за алию привела к возникновению новых биографических проектов, отмеченных и вдохновленных идеей нового рождения и духовного и географического перехода. В своей статье о литературе русской эмиграции в Израиле Баух анализирует как собственное творчество, так и произведения своих коллег, где речь идет о «пути к себе» и самопознании после великого перелома репатриации [Bauch 1983]. Статья носит красноречивое название «Момент истины»; основную линию авторских размышлений передают выражения «преодоление внутреннего раскола», «иная судьба, новая жизнь», «создать себя заново» и т. д. [Ibid: 220–221]. В этом смысле вымышленная жизнь Эммануила Кардина вполне автобиографична.
164
Тот факт, что некогда лояльного к режиму, всеми уважаемого психиатра теперь самого объявляют душевнобольным, отсылает (вплоть до мелких деталей) к упоминаемой в романе повести Чехова «Палата №6». Чеховский интертекст «напоминает» о давней традиции злоупотребления властью в России, подкрепляя тем самым центральную мысль о зловещем ходе русской истории.
165
См. подробную биографию Шраера-Петрова в новейшей монографии [Katsman/Shrayer/Smola 2021]. Беседы с писателем в Рамат-Гане (в декабре 2012 года) и в Бостоне (в декабре 2018 года) помогли мне более ярко представить себе атмосферу отказа, его драматическое воздействие на биографию автора и дух времени написания романа. См. также мою статью: [Смола 2017б].
166
Особенно частый выбор профессии медика ассимилированными евреями Европы – исторический факт. В русско-еврейской прозе разрыв нового поколения со старыми родительскими ценностями часто знаменуется тем, что дети перебираются в большой город и оканчивают медицинский факультет: ср., например, родителей Лили, медиков-атеистов, в уже упомянутом рассказе Людмилы Улицкой «Второго марта того же года». Разрыв с традициями – значимый для истории еврейской диаспоры переход от религиозного образования к изучению естественных наук, нередко к атеизму – становится одним из ключевых топосов нонконформистской еврейской литературы, ключом к историзирующему и часто покаянному самопознанию.
167
Здесь воспроизводятся топосы раннесоветского дискурса модернизации, с воодушевлением воспринятого многими евреями. Процитированное критическое, чуть ли не презрительное изображение мира штетлов как отсталого, с обычными в таких случаях обонятельными ассоциациями, напоминает сатирические пассажи из стихов Эдуарда Багрицкого или Иосифа Уткина, а также автобиографические метафоры Осипа Мандельштама.
168
Первое крупное произведение, в котором обличается советский антисемитизм, на несколько лет опередило эпоху еврейского возрождения в России и принадлежало перу нееврейки: это роман Ирины Грековой «Свежо предание» (1962, опубликован лишь в 1997 году). В этом романе, также одном из важнейших литературных документов эпохи, преследования евреев в Советском Союзе изображены значительно более открыто, чем в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», вышедшем тремя годами ранее. Показательно, что стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр», обращающееся к табуированной в Советском Союзе теме холокоста, было написано за год до романа Грековой, в 1961 году. Об обращении с темой холокоста в Советском Союзе см.: [Al’ tman 2006] и [Grüner 2006].
169
Ненавязчивый просветительско-этнографический подтекст романа проявляется, например, в подробном изложении библейской предыстории празднования Хануки или пояснении еврейских обычаев.
170
Документальность романа особенно явственна на втором, автобиографическом, уровне повествования, где возникает непосредственная параллель между вымыслом и событиями, пережитыми автором: «Я – отказник […] Меня лишили естественной возможности самовыражения: работать по специальности, а потом отняли писательское удостоверение. Все, что я пишу, наверняка пропадет, затеряется» [Шраер-Петров 2014: 232–233]. Упоминается, между прочим, эмиграция Василия Аксенова, критикуется равнодушная позиция Давида Самойлова по отношению к отказникам. Ставится, наконец, вопрос о связи советских евреев с их происхождением: что удерживает вместе всех стоящих в очереди ОВИРа – «неужели только кровь наших загубленных предков?» [Там же: 234].
171
Ср. далее главу «Мистика исхода: Эли Люксембург» (с. 151).
172
Телос возвращения, поднимающий действительность до некого универсального уровня, выражается в пассажах наподобие этого: «…нынешнее существование Герберта Анатольевича, жизнь его витающей над землей души, было направлено только в один мир, одну вселенную – Эрец-Исраэль» [Шраер-Петров 2014: 357].
173
Правда, этот список авторов приводит друг Левитина Михаил Габерман, на что Левитин замечает: «Но я еще и Герцена перечитываю. Очень полезное чтение для нас» [Шраер-Петров 2014: 367]. Этот комментарий можно расценивать как подспудную критику одностороннего еврейского самообразования отказников, а в намеке на истоки левого движения в России и на раннюю политическую эмиграцию (Герцен) видится даже легкий скепсис по поводу алии. Однако в целом роман проникнут страстным пафосом исхода.
174
Здесь и далее цитируется более поздняя, переработанная версия текста, см.: [Люксембург 2008].
175
«Палестиномания» – это явно эвфемистический синоним «сионизма», слова, которое после Шестидневной войны снова стали использовать в советской прессе в пейоративном смысле.
176
Анализируя роман Даниэля Ганцфрида «Отправитель» («Der Absender»), Доротея Гельхард пишет о распространенных в концлагерях выражениях «доходяга», «верблюд», «кретин», «пловец», «урод»: такими кличками «называли узников, которые потеряли всякую надежду, вплоть до утраты дара речи, и превратились в тени. Остальные узники, в том числе и те, кто выжил, относились к этим дошедшим до крайнего истощения людям […] с презрением» [Gelhard 2008: 136]. Цинично используя эти стигматизирующие клички, Исаак Фудым совершает грех против жертв шоа, риторически принимает на себя роль палачей – как немецких, так и советских.
177
Здесь Люксембург отсылает к еврейской религиозной концепции истории, в рамках которой современные катастрофы объясняются виной «непослушного и забывчивого народа Израиля» [Ассман 2004: 221].
178
См. об этом: [Ассман 2004: 231–232].
179
О разнице между структурной (например, сюжетной) и материальной интертекстуальностью см.: [Plett 1991: 7]; о похожей классификации интертекстуального отношения смежности и сходства см.: [Lachmann 1990: 38–39].
180
На интернет-странице Люксембурга описано, как сотрудники советских органов госбезопасности, прочитав об этом в рукописи романа, приняли вымысел за настоящий заговор и пытались выведать у автора информацию о нем: «Смешно вспоминать, самым серьезным образом пытали меня по поводу тайной группы евреев, пытавшихся под землей, пещерами бежать в Израиль. Когда я им говорил, что это сюжет сюрреалистического, мистического романа, существующего в моем воспаленном, больном сознании, они мне не верили. К счастью, через много лет этот роман написался, и вышел в Израиле несколькими тиражами, получив целый ряд престижных премий, был переведен на ряд языков» (Люксембург Э. Автор о себе // Официальный сайт писателя Эли Люксембурга [https://eliluksemburg.wixsite.com/luksemburg/lifestyle]).
181
В частности, ребе Вандал не допускает расстрела узников концлагеря, куда его интернируют во время войны, и вызволяет Иешуа из-под советского ареста: тот оказался втянутым в дело об убийстве и подвергся манипуляциям со стороны антисемитски настроенных государственных органов.
182
В постсоветской еврейской прозе мотив этот подхватывает Олег Юрьев; ср. его роман «Новый Голем, или Война стариков и детей» (2003). См. об этом: [Krutikov 2004: 5].
183
Виктория Мочалова указывает на упоминание в мидраше Вайехи тоннелей, созданных Богом для перемещения душ умерших евреев в Эрец-Исраэль: воскресение ожидает всех чад Израиля лишь на Святой земле [Мочалова 2008: 43].
184
О реальном прототипе ребе Вандала Люксембург рассказывает в интервью Хаиму Венгеру: «…позже я ввел в роман ребе Вандала, прообразом которого послужил мой спаситель, ребе Хаим-Занвиль Абрамович» (Венгер Х. Певец возвращения // Официальный сайт писателя Эли Люксембурга [https://eliluksemburg.wixsite.com/luksemburg/–c3br]).
185
За этим угадывается критика еврейским диссидентом недостаточного национального сознания «укрощенных» советским режимом евреев, которое делает невозможной консолидацию и атрофирует политическую деятельность. О разных исторических формациях советского еврейства, о которых размышляет Люксембург, пишет, например, Даниела Бланд-Шпиц: «[У евреев Закавказья и Средней Азии] еврейская идентичность, отношение к Израилю и т. д. определяется прежде всего не национальными, а религиозными чувствами. […] Расцвет еврейской жизни пришелся там на годы Второй мировой войны, когда туда эвакуировались еврейские беженцы с оккупированных нацистами территорий» [Bland-Spitz 1980: 264]. В романе это кратковременное оживление бухарского еврейства затрагивается лишь вскользь, когда упоминается прибытие евреев из Восточной Европы: «Четверть века назад прибыли в Бухару первые эшелоны эвакуированных – истерзанные евреи из Польши. […] Заброшенные, разрушенные, веками необитаемые „памятники старины“ стали жилплощадью […] И вот мало-помалу унылые наши развалины ожили, обновились, а еще через несколько лет – опустели: война окончилась, „поляки“ уехали…» [Люксембург 1992: 92].
186
Впрочем, на разных уровнях референциальной структуры произведений Люксембурга, фантастически окрашенных и вместе с тем подчеркнуто психологизированных, метафорические образы часто оборачиваются «реальными» или же балансируют на грани мифа и действительности.
187
Шехина в иудаистской мысли означает «пребывание Бога на земле», а также присутствие Бога среди народа Израиля или саму божественную силу/славу. Это важнейшее понятие еврейской каббалы. В лурианской каббале Шехина – это последняя (десятая!) сефира и женская эманация божественного.
188
Рав Бибас цитирует здесь трактат Мишны «Пиркей авот» («Поучения отцов») 5: 8 раздела «Незикин». Ср.: «Десять творений были созданы накануне субботы, в сумерки: жерло, [ведущее в недра] земли, устье колодца, уста ослицы, радуга, ман, посох, [червь] ша-мир, письменность, письмена, [высеченные в скрижалях], и [сами] скрижали. Некоторые [авторитеты] говорят, что [в это время были созданы также] могила для Моше, учителя нашего, и баран для праотца нашего Аврагама. Некоторые [авторитеты] говорят, что [в это время были созданы] и злые духи, а также клещи, с помощью которых [люди смогли] изготавливать другие клещи» (см.: Пиркей авот // Хасидус по-русски [http://chassidus.ru/library/avot/5.htm]).
189
Йоханн Майер пишет о «демонизации истории» [Maier 1995: 259] в еврейской традиции: в раввинистической литературе «исторические враги Израиля, прежде всего неприятельские империи, приобретали сверхъестественно-демонический характер» [Ibid: 36].
190
Демонизация ислама в произведениях Люксембурга не только имеет отношение к географическому колориту, мусульманскому окружению еврейских меньшинств в Средней Азии, но и характерным для эпохи образом отсылает к арабо-израильскому конфликту и последствиям Шестидневной войны: после нее воплощением врага для советских евреев стали как советские метафорические «египтяне», так и реальные мусульмане (и те и другие – «библейские» враги Израиля). Кроме того, здесь кроется отсылка к особенному подъему антисемитизма среди мусульман Средней Азии и Кавказа после победы Израиля в Шестидневной войне и к развернутой в прессе антисионистской травле (см. [Ro’i 2008: 256, 264–265]).
191
Любопытен феномен магической проекции внутренних качеств на материальный мир, а также способность «избранных» распознавать по-настоящему важное, скрытое от других. В целом Люксембург охотно прибегает в своем романе к каббалистическому представлению о тайной связи духовного и вещного, исходя из «предположения, что все внешнее в зашифрованной форме говорит о „внутреннем“ и „высшем“» [Maier 1995: 247].
192
Стоит упомянуть лейтмотив борьбы Иешуа с собственными страстями, в частности, его роковую любовь к Мирьям, сравниваемой с «заблудшей дщерью Сиона» и Марией Магдалиной [Люксембург 1992: 162], и его заболевание сифилисом. Параллель между непостижимой, соблазнительной, опасной сущностью этого центрального женского персонажа и демонической концепцией женщины в каббале очевидна.
193
Эти отсылки не всегда восходят к существующим первоисточникам, так как некоторые приведенные в тексте истории предания вымышлены.
194
См., в частности: [Stemberger 1989: 116–123].
195
См.: [Maier 1995: 273].
196
Ср. интерпретацию баал-тшувы рабби Нисаном Довидом Дубовым: «В жизни цадика не бывает ошибок; он всегда исполняет волю Б-га. Баал-тшува же сбился с пути. Глубоко разочарованный своим отдалением от Б-га, он жаждет снова к Нему приблизиться. Он стремится ввысь с гораздо большей силой, нежели цадик. Может показаться, что его впадение во грех вызвано злыми наклонностями, однако на самом деле это падение произошло ради восхождения. Когда человек совершает тшуву из любви к Б-гу, его грехи превращаются в заслуги. Падение становится для баал-тшувы трамплином, с которого грешник из тьмы взмывает к вершинам духа. Цадику недостает страстного стремления баал-тшувы. Когда придет Машиах, цадик, пусть даже никогда сознательно не согрешавший, увидит, что его собственному служению недоставало страсти, и тоже преисполнится страстной тоски баал-тшувы» (см.: Dubov N. D. Tschuwa // Jüdische.Info [http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/471972/jewish/Tschuwa.htm]).
197
Давид Маркиш написал его еще до эмиграции в Израиль. Первой израильской публикации текста на русском языке предшествовали зарубежные издания переводов на иврит, английский, португальский и шведский языки (см. вступительное слово «От редакции» в: [Маркиш 1991: 1]). В этой главе я опираюсь, в частности, на свою беседу с Маркишем в Рамат-Гане в декабре 2012 года.
198
См. «Семантика постгуманной эпохи: современное (пере)изобретение еврейства» (с. 15).
199
О суггестивной связи земли с Библией и воспитательной роли преодоления исторического разрыва для поколений халуцим и сабров см. также: [Gurevitch/Aran 1994: 199–203].
200
Об отсылках к традиции сионистской прозы в позднесоветской прозе исхода см. также «Биполярные модели: сионистский и соцреалистический роман» (с. 202).
201
О пародировании подобных нарративов в прозе Михаила Юдсона см. «Архаический язык диктатуры: „Лестница на шкаф“ Михаила Юдсона» (с. 345).
202
Если принять во внимание время написания романа, Симон Ашкенази станет одним из многочисленных уже евреев, которым предстояло устроить советский исход в 1960–1980‐е годы.
203
Вопрос о заимствовании сионистами антисемитской аргументации подробно рассматривает Клаус Хёдль [Hödl 1997: 275–314]. Конструирование новой еврейской маскулинности в сионизме, а также соответствующую деконструкцию израильских дискурсов о мужественности в работах Даниэля Боярина 1990‐х годов недавно исследовал Ярон Пелег [Peleg 2015].
204
См. «Евреи-переводчики: литературная мимикрия», с. 104.
205
О новой важности библейских историй, в частности Мегилат Эстер, для нонконформистской еврейской культуры в Советском Союзе говорит, между прочим, картина Алека Рапопорта «Автопортрет как маска Мордехая» (1989), о ней см.: [Бернштейн 2004]. О том, насколько распространена была библейская трактовка смерти Сталина в коллективном сознании советских евреев, свидетельствуют также биографические факты и воспоминания. Вот как Анна Мацкина, одна из респонденток исследовательского проекта о жизни советского еврейства, рассказывает о той эпохе: «…очевидно, нам здесь помог Господь, как он уже помог нам однажды. Да, на Пурим, когда евреи были спасены от истребления. Было это в пятом веке до нашей эры. Так случилось и здесь, ведь удар сразил Сталина в ночь на Пурим. И потому мы, евреи, говорим, что Бог все-таки с нами» [Arend 2011: 110].
206
Эта и некоторые другие детали представляют собой аллюзию на биографию Переца Маркиша, который во время пребывания в Париже издавал экспрессионистский альманах «Халястре» совместно с Ойзером Варшавским.
207
В 1973 году Давид Маркиш, который репатриировался за год до этого, сам принял участие в войне Судного дня.
208
К подобной типологии менталитетов прибегает Юрий Слезкин: «Дети самых лояльных советских граждан стали самыми оппозиционными из всех оппозиционных интеллигентов» [Слезкин 2005: 454].
209
См.: [Вайскопф 2004]. О производном тропе «красного Сиона» см. главу «Яков Цигельман: „Похороны Мойше Дорфера“» (с. 226).
210
Об истории и проблематике карательной медицины, прежде всего психиатрии, в советском контексте см. новаторское для своего времени исследование диссидента Александра Подрабинека «Карательная медицина» (1979); новой публикацией по теме с исчерпывающей библиографией является [Werkmeister 2014].
211
Ср. меткую формулировку Михаила Вайскопфа: «Как всякая революция, сионизм стремился к пересозданию человека. Из обновленной земли прорастал и новый сионистский Адам, идущий на смену своим обветшалым галутно-местечковым предшественникам» (не опубл. выдержка из: [Вайскопф 2001б], текст предоставлен автором). И далее: «Поскольку отъезд почти всегда трактуется как инициация, РИЛ (русско-израильская литература. – К. С.) изобилует метафорами и метонимиями смерти – она передается как травма, увечье, болезнь героя, его обморок, гибель кого-то из близких – например, ребенка, развод и т. п. Во многих текстах отъезжающий герой как бы расстается со своим собственным телом, со своим прежним, упраздненным „я“» [Там же: 244].
212
Один из выдающихся примеров этой литературной ветви – «Ширей Цион» («Песни Сиона») Иехуды Галеви (1075–1141).
213
(Ха-)Маком означает в иудаизме святое, «благое» место, место присутствия Бога и вместе с тем одно из его имен.
214
В «Десятом голоде» Эли Люксембурга они приписываются также арабо-исламским ведомствам и их представителям.
215
Урсула Целлер пишет: «Теология почвы учредила иерархическое отношение между центром и периферией, священным пространством и духовными лишениями. Светский аналог этого соотношения – полюса аутентичности и (само)отчуждения» [Zeller 2003: 2].
216
Ср.: «Принципиальный антиисторизм облекается в формы обращения к искусственно сконструированной утопии прошлого» [Лотман/Успенский 1977].
217
Известными примерами такого мировоззренческого переворота вследствие духовного кризиса служат истории Пьера Безухова в «Войне и мире» и Ивана Ильича в «Смерти Ивана Ильича» Толстого, Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского, гимназического учителя Никитина в «Учителе словесности» и Нади в «Невесте» Чехова.
218
О генеалогии, от европейского Bildungsroman ведущей к «русскому социалистическому роману воспитания» вроде «Что делать?» Чернышевского, а затем «Матери» Горького и «Как закалялась сталь» Островского, см.: [Günther 1990: 207].
219
В сравнительном исследовании тоталитарных литератур – романов сталинского и национал-социалистического изводов – Ханс Гюнтер выделяет те же самые сюжетные компоненты и мотивы: «мученичество как главная тема», «мотив идеологического бессмертия», «дихотомический принцип, поляризующий систему персонажей» [Günther 1990: 201–203]. Гюнтер отмечает, что обе романных разновидности тривиализируют идею внутреннего развития, лежащую в основе европейского романа воспитания.
220
В случае религиозного переворота также важна отсылка к топосам христианского преображения в романах Достоевского, таким как раскаяние, покаяние и возрождение.
221
См. главу «Христология революционера» в: [Uffelmann 2010: 618 f., 726 f., 756 f.].
222
О жертвенном герое в раннесоветской литературе см.: [Günther 1993: 179].
223
Об истории вопроса по теме см.: [Uffelmann 2010: 737–738].
224
Как разновидность традиции подражания Христу Уффельманн рассматривает и антигероя позднесоветской нонконформистской литературы – Веничку в поэме Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» – в силу «более или менее явной топики страдания» [Ibid: 792].
225
В своем исследовании «Коммунизм как религия» Михаил Рыклин пишет о коммунистической «вере в историческую неизбежность выхода за пределы истории» [Рыклин 2009: 31].
226
Показательно, что в литературе исхода часто подчеркивается как раз эфемерная, нереальная, литературно-утопическая природа советской системы. Так, в «Лестнице Иакова» Эммануил Кардин размышляет о своей прежней завороженности ее литературными симулякрами: «Идиотская в юности любовь к этим тусклым, тоскливо-мертвым книгам. К „Что делать“ Чернышевского. К „Городу Солнца“ Кампанеллы» [Баух 2011: 42]. Устойчивый мотив сна и сновидений символизирует в романе призрачность советской жизни, вообще жизни, предшествовавшей иудаистскому просветлению.
227
Парадоксальное слияние дискурсов Израиля и иудаизма с коммунистической социализацией отмечает в 1960‐е годы Эли Визель: «Комсомольцы, идущие в синагогу на Кол нидрей. Вчерашние школьники, воспитанные в духе марксистско-ленинской идеологии, которые как будто возвращаются к иудаизму, не зная, что это такое» [Wiesel 1966: 99].
228
В частности, Фюрст размышляет о поиске альтернативных утопий в позднесоветском неоленинизме, христианстве и других формах коллективной веры [см. Fürst 2012: 144–152, 161–162].
229
Анализируя советскую топографию 1930‐х годов, Владимир Паперный описывает «процесс вертикализации, то есть перемещения границ из социального пространства в географическое» [Паперный 1996: 107]. В рамках типологии Паперного выделение Москвы как «центра Космоса» и все большая иерархизация городов выступают отличительными признаками сталинской Культуры Два [Там же: 107–115].
230
Дина Хапаева реконструирует концепцию социалистической столицы 1930–1940‐х годов как «урбанистической утопии», в которой архитектоническое совершенство оказывается тесно связанным с телеологией террора («[the] intimate link between Moscow’s architectural beauty and political terror») [Khapaeva 2012: 174].
231
О миграции советских евреев в Москву в 1917–1932 годах и влиянии урбанизации на процессы ассимиляции см.: [Freitag 2004].
232
См. рассуждения Эфраима Зихера об иудаистски-апокалиптических аллюзиях в прозе Исаака Бабеля, в которых закодированы чаяния еврейских интеллектуалов периода революционных потрясений: [Sicher 2012: 85–106, 141–144].
233
Однако Вайскопф уже в раннем большевизме прослеживает явные отсылки к христианско-мессианским антисемитским традициям, прежде всего к трудам апостола Павла [Вайскопф 2001a: 136–137, 154]. Антииудаистский «подтекст» реконструируется прежде всего на материале полемики большевиков с еврейской социалистической организацией Бунд (глава «Борьба с еврейской обособленностью» [Там же: 138–143]).
234
Вайскопф также упоминает роман Абрама Высоцкого «Тель-Авив» (1933).
235
Ср. пассаж о герое романа Эгарта: «Ближайшая цель героя – преобразиться в сионистского Нового Адама, пересоздав себя из хамры, красной глины Страны Израиля, взамен гнилой глины галута. […] Биологическая утопия напористо противопоставляется затхлым галутным ценностям старого еврейства» [Вайскопф 2004: 149].
236
В межвоенной Польше такие авторы, как Бернард Циммерман, Рубин Фельдшух, Хенрик Адлер или Якуб Аппеншляк, тоже создали ряд сионистских романов воспитания, в которых изобразили духовную переориентацию еврейской интеллигенции, осознание ею национальных ценностей в эпоху великой утраты иллюзий. Ср.: [Prokop-Janiec 2008: 278–280].
237
Феномен такого еврейства тематизирован в романе Давида Маркиша «Пес» (1984). Главный герой Вадим – русский писатель, для которого собственное (почти никак не ощущаемое) еврейство – это всего лишь один из этапов поиска идентичности, одна из нескольких идеологических ниш, которые могли бы придать смысл его эмиграции, однако герой так и не находит этого смысла. Единственную более или менее стабильную идентичность Вадим видит в своей былой принадлежности к диссидентскому московскому меньшинству, о которой вспоминает с ностальгией. Об этом романе см.: [Nakhimovsky 1992: 200–207].
238
Это, в частности, статья «Антисемитизм – как политика», напечатанная в тель-авивской русскоязычной газете, или принадлежащие перу героя «Размышления Левина о двуликих Янусах» в нескольких частях. Эти сочинения сводят счеты с разжигаемой в обществе юдофобией и советскими стереотипами о евреях, исследуя историю еврейского вопроса, например, участие евреев в Октябрьской революции, требования ассимиляции и лицемерие биробиджанского проекта. Левинские «Размышления» – беспощадный анализ коммунистической доктрины и советской действительности вообще. Здесь нарративная сюжетная рамка играет чисто декоративную роль, служа элементарным способом создания иллюзии и едва ли заслоняя журналистские намерения автора.
239
У повседневности появляется здесь мифологическое измерение, но лишь в том расширенном смысле, о котором писал Ролан Барт, см.: [Барт 2007].
240
Возникновение таких смешанных жанров объясняется как «мутацией» советской прозы, которая начиная с периода оттепели стала постепенно отходить от жесткого формального канона соцреализма, так и литературным контекстом самого движения алии: пафос новой «еврейскости» с его склонностью к мифопоэтическому соединялся, как было показано, с тягой к документу.
241
О биографии Канделя см. «Эмиграция, литературные институции и читатель» (с. 130).
242
В частых и разнообразных в еврейской нонконформистской литературе критико-иронических, субверсивных метафорах деформированной – пересаженной, подвергшейся скрещиванию, мутировавшей, «исцеленной» при помощи воспоминания или же, напротив, смертельно больной – еврейской личности вывернута наизнанку ходовая метафорика советского нового человека. Психиатр Кардин в рассмотренном ранее романе Ефрема Бауха называет такие перемены «изменением психического состава личности» [Баух 2001: 163], длившимся на протяжении шестидесяти лет советской власти. Часто эта полемическая эссенциализация идеологического воздействия выдает желание вернуться к некоему идеальному, исконному, неиспорченному состоянию.
243
Цитируется известное изречение, приписываемое рабби Тарфону: «Не на тебе кончить работу…» [Кандель 1980: 208].
244
В «Лестнице Иакова» Ефрема Бауха мы тоже наблюдали интертекстуальную семантизацию еврейского исхода, однако библейская география там другая. Плавинский, пациент Кардина, напоминает последнему о еврейском ученом – рабби Иоханане бен Заккае, который, бежав из осажденного римлянами Иерусалима, после разрушения последнего Храма и утраты святынь основал раввинистический иудаизм и тем самым сберег еврейскую веру на чужбине. Эта отсылка к иудаистскому примеру призвана помочь Кардину положительно оценить собственные планы «бегства» и ответить на вопрос: «Можно ли, не подлость ли – бежать из обреченного, но родного города?» [Баух 2001: 197].
245
Гибридность такого интертекста отражает не в последнюю очередь многогранность и порой эклектизм интеллектуальных интересов позднесоветской алии. Алия лишь в отдельных случаях была связана с серьезным или исключительно религиозным погружением в еврейскую традицию и с соответствующими литературными стратегиями; однако чаще всего это движение соединялось с другими духовными альтернативами советской догме. Михаил Вайскопф говорит о «хаотической пестроте» советской интеллектуальной жизни 1960–1980‐х годов, повлиявшей на русскоязычную литературу Израиля: «Тут смешивались остаточные культы Хемингуэя и Сэлинджера, квазинаучная фантастика […], Окуджава, Галич, надрыв Высоцкого, […] контрабандный оккультизм журнала „Наука и религия“, йога, почвенничество и православное возрождение, стимулировавшее возрождение иудейское» [Вайскопф 2001б: 242].
246
См. воспоминания Цигельмана об этом периоде жизни в интервью Яну Топоровскому: «Мне захотелось узнать, что такое Еврейская область, что в ней еврейского. И я поехал туда просто посмотреть. Просто понаблюдать. Я поехал посмотреть Биробиджан» [Топоровский 2010]. Вряд ли случайно, что еврейский литератор-нонконформист посетил Биробиджан в годы алии, частью которой считал и себя: «В те времена, в начале семидесятых годов, началась алия, а я всегда хотел уехать из Советского Союза» [Там же].
247
См. об этом: [Kuchenbecker 2000: 159–160].
248
Цигельман – один из немногих современных русско-еврейских авторов, которым еврейская культура и язык были хорошо знакомы с детства: «Я рос в еврейской семье, у нас говорили по-русски и на идише, знали и понимали, что такое „идишкайт“, праздновали еврейские праздники, и у меня была религиозная бабушка. А потому я знаю с детства о еврействе и о себе» [Топоровский 2010]. Как будет показано далее (см. «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии», с. 241), это знание вошло в его произведения не только на тематическом уровне, но и на уровне поэтики.
249
О семиотике идиша см.: [Harshav 1990; 1994] и далее («Переизобретение еврейского повествования», с. 269).
250
Растянутому во времени, «естественному» процессу культурного упадка противопоставлена в тексте сознательная стратегия властей, направленная на присвоение, сокрытие и подчинение, – техника уничтожения, переписывания и утилизации всего еврейского. Это проявляется, в частности, в использовании надгробий с еврейского кладбища для мощения улиц в бывшем еврейском местечке после войны. Об этом рассказывает Мойше Дорфер: «Я видел, что могильными плитами с еврейского кладбища выстланы теперь тротуары. Да-да, я шел по каменному тротуару и вдруг увидел!..» [Там же: 43]. Подобные действия нередко объяснялись непригодностью культуры прошлого для острых нужд современности.
251
Одна из редких публикаций на эту тему – статья Риты Гензелевой «Сатира еврейского самиздата: Феликс Кандель» [Гензелева 2003].
252
О сакрализации правителей в советской культуре см. обширную литературу, особенно: [Гройс 2003; Кларк 2000; Brooks 2000; Garstka 2005]. В своем фундаментальном труде о панегирической традиции в России Гарстка возводит «религиозно мотивированные отношения между правителем и подданным» к византийскому сакральному культу властителя [Garstka 2005: 81]. В связи с коммунистическим почитанием вождей он пишет о возвращении ослабшей в XIX веке эпидейктической традиции [Ibid: 291].
253
В отличие, например, от Григория Вольдмана, о котором почти ничего не известно, Юлия Шмуклер рассказывает о своей жизни в краткой автобиографии: [https://libking.ru/books/prose-/prose-rus-classic/213249-yuliya-shmukler-avtobiografiya.html].
254
О демонических атрибутах Сталина в коллективном бессознательном см.: [Гройс 2003: 93].
255
Об этом романе и непростом, менявшемся отношении Эгарта к советской власти, которое видно из сравнения изданий 1934‐го и 1937 годов, см.: [Хазан 2001б; Вайскопф 2004; Shrayer 2011].
256
См. обсуждение гибридной или, наоборот, дихотомической еврейской идентичности в прозе Дины Рубиной с использованием постколониального аппарата в: [Parnell 2004].
257
Крутиков имеет в виду одноименный роман Шолома Аша 1921 года «Во славу божию», см.: [Krutikov 2001: 157]. Киддуш Хашем переводится как «освящение Имени (Бога)» и означает мученичество за веру.
258
В уже упоминавшейся публицистико-автобиографической книге «Последние судороги неумирающего племени» (1975) Севела предлагает проницательный и горький анализ израильских реалий, прежде всего с точки зрения пригодности государства Израиль к тому, чтобы стать родиной для советских и других эмигрантов. Писатель приходит к парадоксальному выводу, что Израиль, убивая малейшие намеки на проявление национальных чувств, заставляет евреев быстрее ассимилироваться к другим народам [Севела 2007a: 181].
259
Мотив жары и духоты, которые мучают героя повести «Продай свою мать» в Израиле, становится метафорой духовной жажды. Климат в обоих текстах – поливалентное понятие, означающее отсутствие интеллектуальной свободы. В романе «Остановите самолет – я слезу!» Севела, описывая израильский «климат», отсылает к царящим в стране религиозным законам – предписаниям, призванным превращать евреев-эмигрантов в послушных израильтян.
260
Советско-еврейский протагонист Севелы объясняет неспособность воспринимать Израиль как родину отсутствием в диаспоре еврейских традиций: «Ну какие же мы евреи? В Бога не верим. Еврейских традиций не соблюдаем. Языка своего не знаем» [Севела 2004б: 222].
261
Как замечает Элис С. Нахимовски, эмиграция разрушает одностороннее, идеализированное представление о евреях героя романа Маркиша «Пес» Вадима Соловьева – «романтический взгляд на еврея как на образцового интеллектуала, который редко пьет, усердно учится и преодолевает сложнейшие препятствия ради того, чтобы получить образование» [Nakhimovsky 1992: 201]. Противоположность этому идеальному еврею диаспоры составляют в романе религиозные еврейские фанатики из Бней-Брака, а также провинциальные соотечественники Вадима, занятые мелочными повседневными заботами и думающие лишь о собственной выгоде.
262
Такое толкование зоологической метафорики в русско-еврейской прозе требует, однако, историко-литературного уточнения. Как видно уже из названия, а также из смысловой структуры романа Давида Маркиша «Пес», образ пса – это прежде всего троп советской государственной милицейско-надзорной системы, но также и вечного скитальчества и неприкаянности советско-еврейского интеллектуала. Здесь Маркиш отсылает к своему выдающемуся предшественнику, Шмуэлю Йосефу Агнону, с его уже упомянутым романом «Темол шилшом». Герой этого произведения, Ицхак Куммер, выходец из простой семьи восточноевропейских евреев и пламенный сионист, переселяется из Галиции в Палестину, где переживает глубокое разочарование; правда, во второй части романа ему удается более или менее приспособиться к реалиям жизни на Святой земле. У него есть таинственный двойник – бродячий, всеми гонимый и проклинаемый, безумный пес Балак, который в финале загрызает Ицхака насмерть. Амир Эшель трактует это двойничество как символ невозможности достичь святого места маком в реальной Палестине: «В фигуре бродячего пса, сливающейся с седым сионистом Куммером, Агнон мастерски кодирует современную радикализацию старинного противоречия между космосом и макомом» [Eshel 2003: 132]. Слияние конкретного места с духовным достижимо лишь в смерти. Так и герой романа «Пес» Вадим Соловьев, как было упомянуто, тщетно ищет единственную родину, затем решается на возвращение в страну рождения, а в конце его тоже загрызает собака. Необъяснимое отвращение Вадима к собакам и вместе с тем его постоянно подчеркиваемое сходство с псом как бы предвосхищаются у Агнона. Важно, что глубоко укорененный в восточноеврейской традиции Агнон изображает проблемы заселения евреями Палестины и провалы сионистской идеологии изнутри, с точки зрения участника сионистского строительства. Напротив, внешняя в силу социально-исторического контекста точка зрения ассимилированных евреев Севелы, Милославского, Маркиша или Цигельмана приводит к радикальному отрицанию израильской реальности.
263
В пессимистических вариантах сионистского травелога можно найти немало неприглядных зоологических параллелей с приручением и укрощением (ср. ранее о «Врата Исхода нашего» Феликса Канделя и «Картины и голоса» Семена Липкина, с. 218). В уже упоминавшемся романе «Остановите самолет – я слезу!» Эфраима Севелы рассказчик описывает опыт репатриации так: «В Израиле есть целое Министерство абсорбции. Оно только тем и занимается, что превращает евреев в израильтян. Вольных, необъезженных евреев вылавливают из диаспоры, как диких мустангов из прерий, и пропускают через машину абсорбции, чтобы довести их до местной кондиции» [Севела 1980: 72].
264
Ср. высказывание Петра Вайля и Александра Гениса о советской алии: «Разочаровавшись в России, они увозили ее с собой. Утопия меняла лишь адрес, но сохранила признаки своего российского происхождения: веру в возможность осуществления царства Божьего на земле; веру в творческий коллектив свободных людей […]; веру в равенство, братство и счастье – для всех и навсегда» [Вайль/Генис 1996: 306].
265
См. главы «Первый сон АФ» и «Второй сон АФ» в: [Цигельман 2000: 67 f., 214 f.].
266
Например, когда одним семантическим пространствам соответствует возвышенная стилистика, а другим – разговорно-бытовая.
267
См. «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии» (с. 241).
268
В своем типологическом исследовании русской культуры Игорь Смирнов развивает концепцию Лотмана, постулируя похожую «конъюнкцию» земного и метафизического миров, характерную для раннесредневекового мышления. Трансцендентное напрямую вводилось в эмпирически наблюдаемую действительность. Проявляется это, в частности, в пространственных моделях древнерусской литературы, наносившей рай и ад на географическую карту: «…рай и ад размещаются в участках земного пространства, причем пребывание там рисуется как продолжение земного бытия» [Смирнов 2000: 261]; «Раннему средневековью хотелось бы, чтобы перемещение в запредельное не означало исчезновения из физической среды, чтобы одно и то же явление знаменовало собой пребывание как посюстороннего в потустороннем, так и потустороннего в посюстороннем» [Там же: 263].
269
Как показывает в своей часто цитируемой книге Мирча Элиаде, связь тех или иных мест с божественными или демоническими силами и атрибутами – основополагающее свойство архаических культур. Чтобы географические места могли войти в картину мира древнего человека, необходимо было приписать им божественное происхождение и, соответственно, «внеземной архетип» [Элиаде 2000: 27–30].
270
См. о геопоэтике Уайта: [Marszałek/Sasse 2010: 7–8].
271
Амир Эшель описывает эту концепцию на материале еврейской литературы и специфики ее духовных топографий. Главный его тезис звучит так: «Разрушение Второго Храма и изгнание евреев из собственной страны в значительной мере укрепило интерпретацию макома как лингвистического маркера идеи, что Бог может являть себя где угодно, что маком содержится прежде всего в тексте» [Eshel 2003: 124].
272
Диалектическое соотношение утопизма и апокалиптики метко формулирует Оге Ханзен-Лёве в связи с «эндшпилями и нулевыми формами» русского авангарда: «С одной стороны, утопизм апокалиптичен, так как обращен к эсхатону в сфере посюстороннего, […] с другой – антиапокалиптичен постольку, поскольку использует модель времени и действия, противоположную (классической, библейской) апокалиптике. Утопист переносит потустороннее в этот мир, подменяя пророчества утопическим планом, проектом» [Hansen-Löve 2005: 705].
273
Характерный для иудаистских текстов прием переноса топографических понятий в сферу универсального анализирует Аркадий Ковельман. В частности, он показывает, как земля Ханаан в трактате Мишны «Санхедрин» становится метафорой вечного и вместе с тем будущего царства и, соответственно, особым местом возвращения всех евреев [Ковельман 2008: 9–32, особ. 26].
274
См. главу «География вместо истории. Сибирь».
275
См. документальный отчет о преимущественно нерелигиозной эксплуатации российских синагог (на примере отдельных регионов) еще в 2001 году: [Белова/Петрухин 2008: 165].
276
В «Белых овцах на зеленом склоне горы» рассказчик, приехав в Азербайджан, вместе с коллегами-писателями останавливается на ночлег в доме местной семьи. Во время застолья он задает вопрос: не приходятся ли домочадцы родственниками известному хирургу Елизарову? Возникает неловкая пауза, после чего хозяин дома Сулейман отвечает, что это не так, ведь они азербайджанцы, а Елизаров – горский еврей. После трапезы Сулейман внезапно ведет рассказчика в укромную комнатку, которая находится в подвале, за несколькими запертыми дверями. Эта каморка оказывается тайной молельней с серебряными подсвечниками для шабата и Танахом, лежащим на талесе. Сулейман рассказывает, что его семья, происходящая от горских евреев, некогда была насильно обращена в мусульманство. «Но мы все равно остались евреями», – говорит он [Шраер-Петров 2003: 297]. В идиллическом пейзаже вокруг дома Сулеймана рассказчику мерещатся поэтичные ландшафты древнего Ханаана, а затем он как будто бы слышит, как Авраам приносит в жертву овцу, чтобы господь когда-нибудь примирил его сыновей – Исаака и Измаила.
277
В России большинство произведений Севелы и Бермана были опубликованы лишь после перестройки; интерес к юмористике Севелы заметно возрос с конца 1980‐х годов.
278
Ср. остроумное высказывание Сэнфорда Пинскера о происхождении еврейского юмора: «Быть может, еврейский юмор начался с того, что некто задался вопросом: почему бы Господу хотя бы разок не избрать кого-нибудь другого?» [Pinsker 1991: 9].
279
Перечисленные народные персонажи не раз выводились в идишской литературе. Так, целый ряд еврейских простаков и неудачников, например реб Калмен Айзика-Меера Дика, Бонце-швайг (Бонця-молчальник) Ицхока-Лейбуша Переца или Гимпель-дурень Исаака Башевиса-Зингера, не говоря уже о Тевье-молочнике и Менахем-Мендле Шолом-Алейхема, в коллективном сознании превратились в легко узнаваемые, символичные фигуры, литературные прототипы и архетипы. О литературной обработке еврейского фольклора, питающей творчество нескольких поколений идишских прозаиков, см.: [Роскис 2010].
280
Дов Садан прослеживает, как монолог в творчестве Шолом-Алейхема, черпая из традиции сатиры периода Хаскалы, вместе с тем ее преодолевает [Sadan 1986: 58–60]. Именно речь героя-рассказчика, наивного и мало знающего, разоблачала его перед маскилом. Впоследствии сюда добавились нотки социального сострадания, сместившие акцент с невежества рассказчика, нередко ам-хаареца (еврейского невежды, см.: [Loewe 1920: 41–43]), на его социальную неустроенность. «Идентификация с ментальностью рассказчика» [Ibid: 59] сливается у Шолом-Алейхема с унаследованной от литературы Хаскалы иронической дистанцией по отношению к позиции этого внутридиегетического повествователя. Именно эта амбивалентная фокальная структура и стала «фирменным знаком» еврейского storytelling в Восточной Европе; ею и сегодня пользуются, перенося ее в современность, многие авторы.
281
См., в частности: [Miron 1973: 67–69, 79–84; Baumgarten 1982: 74–76; Harshav 1990: 91 f.; Wisse 1994].
282
О Вениамине Третьем – персонаже Менделе – см.: «Конец дихотомии: разрушенная утопия алии», с. 241.
283
См. главу «Мимический автор и его „маленький еврей“» в монографии Дана Мирона: [Miron 1973]. Мирон реконструирует программатику, которая – например, в высказываниях Шолема-Янкева Абрамовича (Менделе Мойхер-Сфорима) и Михи Иосефа Бердичевского, – определила зарождение идишской прозы и все ее дальнейшее развитие. Состояла она в том, что писатель должен был отстраниться от самого себя, даже забыть о себе, то есть отказаться от аутентичного авторского голоса. Искусство превращения предполагало нарративное слияние с миром «маленьких человечков»: «…идишский автор должен прятать свою непосредственную идентичность, используя письменную технику самоостранения или даже самоустранения. Для этого необходим дар актерского перевоплощения и уверенное чувство необходимых ограничений, налагаемых мнимой невинностью рассказчика» [Miron 1973: 79].
284
Ср. аналогичный эпизод из рассказа Шолом-Алейхема «Dray almones» («Три вдовы»), цитируемый Мюрреем Баумгартеном как пример характерного для идишских текстов «языкового действия» и «эпичности идиша»: «Итак, приступаю к самому рассказу. Терпеть не могу предисловий, лишней болтовни. Звали ее Пая, а прозвали – „молодой вдовой“. Почему? Начинается история: почему да отчего?» [Baumgarten 1982: 74; Шолом-Алейхем 1961: 278].
285
См. также у Мюррея Баумгартена: «[Язык] – это единственное средство, помогающее персонажам поддерживать […] свою непрочную культурную сеть» [Baumgarten 1982: 76].
286
Иронический контраст между энтузиазмом рассказчика/героя и жалкой провинциальной действительностью – основной прием и в «Путешествии Вениамина Третьего» (1878) Менделе Мойхер-Сфорима. Как уже говорилось, напускная наивность персонажа ам-хаареца из литературы Хаскалы переходит во многие тексты еврейской литературы.
287
Как не раз отмечали исследователи творчества Шолом-Алейхема, исторические цезуры, слом традиции и судьба еврейства в необратимо изменившемся мире становятся непосредственной темой «Тевье-молочника». Меер Винер пишет: «На первый взгляд, предмет Тевье-молочника вполне домашний: проблема воспитания детей. Однако на деле этот цикл „портретов из частной жизни“ изображает не только и не столько невзгоды одной семьи […], сколько упадок общественных основ в период между разными историческими эпохами» [Wiener 1941/1986: 44]. Библейские цитаты, считает Майкл Стерн, служат старому Тевье исконно еврейским средством сопротивления окружающим переменам – или хотя бы их истолкования, включения в знакомую картину мира: «Будучи бессилен остановить перемены, он способен бороться с ними разве что при помощи цитат и глосс» [Stern 1986: 93].
288
Эту плакатную внешность, прямо-таки зеркально противоположную клише о местечковых евреях, можно интерпретировать как провокационное опрокидывание Севелой – диссидентом и политическим эмигрантом – антисемитских стереотипов. Если перенести сионистскую фразеологию в контекст его вымышленного штетла, то речь здесь в буквальном смысле идет о пресловутых «мышечных евреях». Севела отказывается от изображения внешней инаковости евреев, более того, они превосходят своих нееврейских соседей по выраженности таких якобы нееврейских качеств, как физическая сила, простоватость и необразованность. Во внешности севеловских богатырей соединились, как кажется, черты сионистского и советского идеалов. Такие же мускулистые евреи действуют, например, в опубликованном издательством «Советский писатель» в 1983 году рассказе Бориса Гальперина «Моя родословная» (см. «Над андеграундом», с. 64), где сильные, хмурые, неотесанные еврейские лесосплавщики воплощают суровый идеал советского рабочего.
289
Низкорослость словно наглядно воплощает еврейский архетип маленького человечка (kleyne mentshele).
290
Вот что пишет о хелмер нароним (хелмских мудрецах/простецах) Мюррей Баумгартен: «Когда требуется решить некую проблему, хелмские мудрецы всегда предлагают теоретически правильный, однако практически абсурдный выход» [Baumgarten 1982: 79]. В современных условиях хасидскому сопротивлению, которое в свое время было направлено против оторванной от мира еврейской учености и которое стало богатым материалом для еврейского фольклора, соответствует протест против советской действительности, суровой не только к евреям.
291
О традиции простаков и плутов в еврейской народной культуре см.: [Loewe 1920]. Как уже в историях рабби Нахмана, прежде всего в знаменитом рассказе «Мудрец и простак» («A mayse mit a khokhem un a tam»), (хасидские) простаки и есть подлинные мудрецы, так как умеют быть счастливыми, несмотря ни на что, не ведают сомнений и недовольства; на этой ценностной шкале «маленький человечек» становится великим. См. также главу «Хасидский дурак» в монографии Рут Вайс: [Wisse 1971: 16–24].
292
Ср.: «…я никак не понимаю, как это выдержал земной шар, который продолжает по-прежнему вертеться, как ни в чем не бывало, а солнце так же всходит каждое утро, ни разу не покраснев. Уму не постижимо!» [Севела 1991a: 95].
293
Ср. об этом также: [Dauber 2004: 3].
294
Но также и на другие идишские тексты, например, тот же роман Шолом-Алейхема «С ярмарки», где рассказчик, разыскивающий друга детства, тоже обращается к читателю.
295
Ср. также рассказ «Холерная свадьба» Якова Ромбро (1890?).
296
Из моей электронной переписки с Филиппом Берманом от 20 сентября 2018 года.
297
См. об этом у Шимона Маркиша: [Маркиш 1997: 17–21]. О расколе в сознании рассказчика – «внутренней неслиянности роевого сознания с сознанием уединенным» – в «Конармии» см. также: [Добренко 1993a: 54–101, цитата на с. 75].
298
К которым, как известно, в равной степени принадлежали Танах, Талмуд, а также русская и всемирная литературы (см., в частности: [Жолковский 1994] и [Sicher 2012]).
299
«Сознавая свой статус маррана, такие писатели, как Бабель, вплетали в свой русский язык скрытый язык Другого, имея в виду тех еврейских читателей, которые, будучи двуязычными, понимали этот еврейский „тайный язык“: своего рода „двойная бухгалтерия“» [Sicher 2012: 24].
300
Таких героев Шолом-Алейхема, как, например, Тевье, Менахема или Мотла, Михаил Крутиков называет «воплощениями еврейской „сущности“», которые именно во времена общественных кризисов обеспечивали основу для позитивного самоопределения: «Персонажи подобного типа были чрезвычайно популярны, так как служили символической цели национальной репрезентации» [Krutikov 2001: 212].
301
Я сознательно перечисляю произведения «второго ряда», неоднородные в художественном смысле, однако имеющие историко-биографическую ценность – меморативные свидетельства эпохи.
302
Правда, у Рубиной представлены две противоположных модели Израиля – и сатирическая, и судьбоносно-спиритуальная.
303
О прозе Барановского см.: [Smola 2011d].
304
Так, рассказ Эли Люксембурга «В полях Амалека» написан с точки зрения автобиографического рассказчика – религиозного еврея, эмигрировавшего из Советского Союза. Герой исполнен горькой непримиримости по отношению не только к антисемитски настроенному населению Восточной Европы, но и к тем евреям, которые решили остаться дома, то есть в местах страшного преступления – холокоста. Рассказчик последовательно считает чужаками всех неевреев, всех неверующих евреев и всех евреев, живущих не в Израиле. В данном случае обретение – или топографическое завершение – новой еврейской идентичности совсем не означает отказа от полярного мышления.
305
Издание снабжено послесловием Льва Аннинского, в котором тот занят главным образом обсуждением национальных вопросов.
306
Ср. очень похожий эпизод в романе Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера» (1975) (см. об этом «Постколониальный mimic man: „Исповедь еврея“ Александра Мелихова», с. 370).
307
Нечто подобное наблюдается и в автобиографии Лео Певзнера «Там, где мы есть. Записки вечного еврея» (2018).
308
Грубер справедливо указывает, что тоска по «аутентичному еврейству» и желание вернуться к корням явились продуктом начавшейся задолго до холокоста и коммунизма ассимиляции европейских и американских евреев и Хаскалы, а переоткрытие и мифологизация еврейского культурного наследия Восточной Европы еврейскими интеллектуалами начались еще в конце XIX века [Gruber 2002: 30 f.]. Моника Рютерс отмечает следующие эпизоды возврата к прошлому: этнографические экспедиции Ан-ского в еврейские штетлехи; хасидский ренессанс – в частности, в творчестве Мартина Бубера – первой трети XX века и невиданную популярность фотографий евреев Восточной Европы в Америке 1930‐х годов – например, альбомов Романа Вишняка [Rüthers 2010: 78–83]. Утраченная традиция уже тогда противопоставлялась «разорванной современности» [Ibid: 83].
309
Ср., например, Фестиваль еврейской культуры в краковском районе Казимеж (см. об этом: [Gruber 2002: 46–49]) или празднование еврейских мемориальных дат.
310
В лучшем случае это как раз и становится продуктивной «творческой изменой» в понимании Дэвида Роскиса, предполагающей одновременно близость и дистанцию.
311
Об этом см. во Введении.
312
Также в смысле «обнажения искусственности» повествования, которое Вернер Вольф рассматривает как основной прием искусства, направленного на разрушение иллюзии, искусства метафикционального [Wolf 1993: 220], но и в смысле классической «нарративной авторефлексии» [Alter 1975].
313
Об этой классификации см. также Введение.
314
Обзор этой традиции со времен античности до наших дней см. в: [Kany 2009].
315
Одна из монографий (число которых продолжает расти) о городском пространстве как о палимпсесте – работа Морица Чаки [Csáky 2010]. Чаки исследует такие популярные в гуманитарном дискурсе понятия, как следы, различия, гибридность, мультикультурализм и палимпсест, на материале культурного пространства Вены и Центральной Европы в целом.
316
Татьяна Петцер рассматривает творчество Данило Киша как глобальную поэтическую попытку создать при помощи «геологических» приемов «„архив неархивированного“», т. е. истребленного [Petzer 2008: 165]. Так у Киша вырисовывается функция мусорных свалок: «Помойки истории становятся отправной точкой (магмой) творческого акта, в трансформированном виде входя в литературную память» [Ibid: 152].
317
В книгу вошли тексты Шульмана последних десятилетий; самые ранние были написаны еще в 1950‐е годы.
318
См. об этом: [Düwell 2004].
319
О понятии метатекстуальности ср. основополагающий труд Вернера Вольфа [Wolf 1993]; дополняющие друг друга определения термина см. в типологиях Жерара Женетта [Genette 1982] и Манфреда Пфистера [Pfister 1985: 26–27].
320
Ср. также непосредственно вслед за этим: «Отец окончил четыре класса городского училища в Минске. Я не уверен, что это точно (курсив мой. – К. С.) – возможно, и три класса» [Меттер 1992: 13].
321
Ср. другой троп ненадежной, латентной памяти: «Их [предков] зыбкие очертания колеблются в моей памяти, как водоросли на дне речного потока» [Там же: 17]. Лакуны заполняются, однако, осознанием общности: «Но вот необъяснимое ощущение, что они мои, что я происхожу от них, что это мой род (курсив в оригинале. – К. С.), обогащает меня непрерывностью существования – чувством божественным» [Там же].
322
Ср. также: «…Пробелы памяти неохота восполнять связующими домыслами. Гул времени сохранился осколками воспоминаний, – им противопоказана последовательность и даже достоверность. Из марева возникают звуки и миражи» [Там же: 23].
323
Так, (своей собственной) позднейшей советизации и общему истреблению еврейской культуры Меттер приписывает черты фиктивности: «…это надо понимать не буквально, все это с нами как бы свершалось» [Там же: 24]. И наоборот, «неправдоподобные» истории из Торы о чудесах Моисея в пустыне, о которых повествователю рассказывали в еврейской гимназии, приобретают черты достоверности иного рода. Подобное переворачивание двух уровней реальности уже встречалось нам в еврейской литературе исхода.
324
См., например, монографию Клаудио Магриса о Йозефе Роте: [Magris 1971].
325
Государственный советский антисемитизм – центральная тема всего творчества Меттера, см. прежде всего опубликованную лишь в конце 1980‐х годов повесть «Пятый угол» (1967); об этом тексте см. у Риты Гензелевой: [Гензелева 1999: 125–140].
326
Рассказчик говорит о мечтах «торговок рыбой, повивальных бабок, портных и сапожников, шорников и столяров, лавочников и лудильщиков» [Канович 2002: 160]. Пространный список еврейских профессий явно выполняет мнемотехническую, а лучше сказать, мемориальную функцию.
327
Олаф Терпиц, упоминая неоднородные переводческие стратегии в творчестве Кановича, отсылает к предложенному Гершоном Шакедом понятию социосемантики: культурная инаковость текстов противопоставляется читательскому культурному горизонту [Терпиц 2008: 244]. Эта ситуация отражается в «обозначении реалий», которые в неодинаковой степени переводятся на русский язык либо поясняются. В результате читатель оказывается в промежуточной зоне между двумя культурами, на пересечении «инсайдерской» и «аутсайдерской» перспектив.
328
«Евреи с настойчивостью и решимостью, достойной маккавеев, спешили в ОВИР, в отдел выдачи виз и регистрации, как когда-то на молебен в Большую Синагогу» [Канович 2002: 169].
329
Слово «холокост», означающее тотальное уничтожение еврейства, переводится с древнегреческого как «тотальное сожжение».
330
О русском изводе европейского постмодернизма см.: [Chernetsky 2007: 3–55] и [Липовецкий 2008: 1–69].
331
Александр Чанцев исследует феномен бодрийяровского симулякра в дистопической прозе 2000‐х годов, прежде всего в романе Ольги Славниковой «2017». Поскольку все исторические процессы и дебаты в этом тексте инициируются не народом, а обезличенной властью, они предстают чистой симуляцией политической деятельности, являются вторичными, инсценированными [Чанцев 2007].
332
Ср. следующие работы о многократно обсуждавшихся романах Владимира Сорокина «День опричника» и «Сахарный кремль»: [Чанцев 2007; Липовецкий/Эткинд 2008; Krier 2011; Aptekman 2013].
333
О «новом средневековье» в российской прозе 2010‐х годов, например, в «Лавре» Евгения Водолазкина и «Теллурии» Владимира Сорокина, см.: [Kasper 2014].
334
Другой пример – «Захват Московии. Национал-лингвистический роман» (2012) Михаила Гиголашвили. Как явствует уже из названия, автор, который ставит в этом романе историко-лингвистический «диагноз» России, тоже сополагает и сталкивает друг с другом архаические и современные языковые дискурсы. О том, как «лингвистический кризис переходит в эпистемологический» в романе Татьяны Толстой «Кысь» (2000), пишет Ингунн Лунде [Lunde 2006: 66 f., здесь 67].
335
Пространственная метонимия «Москва златоглавая» переносит цвет православных церковных куполов на топоним «Москва».
336
Самый, пожалуй, известный эквивалент – Свято-Троицкая Сергиева лавра.
337
Стоит заметить, что Юдсон использует прием такого эпистемологического мерцания за несколько лет до куда более известных дискурсивных антиутопий Владимира Сорокина. «И в Дне опричника, и в Сахарном кремле широко используется особый тип повседневного архаичного языка, использующего народные и древнерусские морфологические формы, афоризмы и выражения» [Aptekman 2013: 285]. О гибридности языковой диахронии Аптекман пишет: «При ближайшем рассмотрении, однако, этимология большинства этих старых новых русских слов современная. […] Сорокинский старый новый церковнославянский (здесь и далее курсив в оригинале. – К. С.) существует на границе языковых культур. Автор заимствует псевдонародные дискурсы из постсоветских неопатриотических литературных текстов и медиа, сочетая их с преимущественно уголовным новорусским сленгом, постсоветскими концепциями, такими как киберпанки, и советскими идиомами» [Ibid: 285–286]. Похожие наблюдения см. в статьях Дирка Уффельманна [Uffelmann 2009b: 160–161] и Анны Крир [Krier 2011: 178, 194].
338
Поскольку Илья официально «прописан» в Палестине, пребывать в Москве ему разрешено лишь временно. Это ограничение напоминает как о еврейской черте оседлости в дореволюционной России, так и о российских законах об иммигрантах и беженцах.
339
Охота на песцов – устойчивый мотив всего текста, так что этот зверь выступает парадигматическим символом жертвы.
340
В этом состоит важное отличие юдсоновского текста от сорокинского анахронистского дискурса, относящегося к более позднему времени: ретрофутуристический режим Сорокина основан на сочетании архаических моделей власти с высокими технологиями настоящего, тогда как в центре фантасмагории Юдсона находятся хаос и упадок цивилизации.
341
Демонизация евреев восходит к давней традиции русской демонологии, черпающей свои мотивы и сюжеты из фольклора и дошедшей до постсоветской эпохи. О центральном месте образа еврея в славянской демонологии пишут Ольга Белова и Владимир Петрухин [Белова/Петрухин 2008: 451–498]; Леонид Ливак перечисляет «архетипические ассоциации» евреев с дьяволом [Livak 2010: 57–73] и животными [Ibid: 74–87]. Показательно, что Борис Гройс называет искусство соцреализма «агиографическим» и демонологическим [Гройс 2003: 85, 88].
342
Об историческом мифе «святой Руси», аллюзиями на который полнится роман Юдсона, а также о понятии «иноверцы» см. [Hellberg-Hirn 1998: 101–104]. «Иноверцы» заменяются здесь производным пейоративом «недоверки», где приставка недо- означает несовершенность, неполноценность, то есть ложность веры.
343
Бестиализация, или анимализация, еврея не только чужими, но и самим собой – часто используемая в романе Юдсона стратегия остранения, ироническая мимикрия, взгляд на себя глазами юдофобов. Однажды члены секты скопцов пытаются изменить «окрас» [Юдсон 2005: 109] пойманного ими Ильи и соскоблить его «колючую желтушную чешую» [Там же]. «Жидец одногорбый чешуйчатоносный» – классифицируют они («горб» относится к еврейскому носу, измеренному скопцами). Однако этот фантастический телесный признак – чешуя – описывается здесь не как плод воображения или клеветы, а как элемент реальности, что придает всей сцене абсурдно-юмористический характер. Аналогичным образом сам Илья описывает свою руку как мохнатую лапу [Там же: 168]. В монастыре, где в одной из сцен Илья просыпается после нападения, его с интересом осматривает хирург – и заключает: «Настоящий еврейский организм. Я думал, они у нас уже не водятся» [Там же: 210]. Это напоминает о расовых исследованиях в нацистской Германии, предвосхищая тем самым вторую часть дилогии. Но это же и намек на евреев как на «вымершую расу».
344
Легко считываемый намек на дореволюционную монархически-антисемитскую организацию «Союз Михаила Архангела».
345
См.: Sander A. Juden und Muslime // Planet-Wissen [http://www.planet-wissen.de/politik_geschichte/juden/geschichte_des_juedischen_volkes/juden_und_muslime.jsp]. О еврейских опознавательных знаках в средневековой Европе см.: [Hödl 1997: 28].
346
О московском метро как об исторической и символической утопии, напоминающей о мрачных мифах сталинского строительства и приобретающей после распада Советского Союза все более демонические черты, см.: [Groys 1995: 156–166]. Превращение Москвы в монструозный топос тоталитарной памяти и сеттинг литературного изображения «готического» общества в постсоветской литературе, например, у Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, исследует Дина Хапаева. Действие, напоминающее кошмарные сны, у этих авторов нередко разворачивается именно в метро [Khapaeva 2012: 178–187].
347
В народных верованиях нечистая сила наделяется умением создавать священные предметы и реликвии. Нечистый может обманом отвращать невинных от истинной веры и вводить их во грех. Борис Успенский упоминает легенды о «записанных» иконах с изображениями чертей, скрывающимися под ликами святых [Успенский 1995: 242–243]. Таким образом, через непрямую метонимическую атрибуцию евреи у Юдсона демонизируются в буквальном смысле, т. е. ассоциируются с дьяволом из народных легенд. Пропахшие чесноком реликвии тоже воплощают страх перед вторжением чужого (т. е. евреев с приставшим к ним клише чесночного запаха) в народную святая святых. Чужую веру, в частности иудейскую, народные истории часто связывали с дурным запахом, распространяемым «нехристями» (см.: [Белова/Петрухин 2008: 139]; о европейском контексте подобных представлений см.: [Hödl 1997: 24–27]). Хёдль тоже упоминает так называемый «foetor judaicus», вонь, приписываемую евреям в средневековой Европе, и популярную издевательскую песню 1880‐х годов «Похвала чесноку» [Ibid: 24, 26].
348
Пер-Арне Будин исследует канонизацию – или почитание в отдельных русских общинах – «великого князя» Дмитрия Донского (1350–1389) и адмирала Федора Ушакова (1745–1817), Ивана Грозного, Сталина, а также жертв советских репрессий или убитой семьи царя Николая II [Bodin 2009: 38–39, 87–133]. Тенденцию к провозглашению все новых святых Будин связывает с мистической, антирационалистической традицией русского православия, стремлением к «присутствию божественного на земле и доказательствам бытия Божия»; в реальности посткоммунизма она влечет за собой возврат к старым религиозным практикам [Ibid: 35–37]. Связь между патриотизмом с оттенком ксенофобии, имперскими притязаниями и религиозностью, которую дискурсивно разрабатывает Михаил Юдсон, Будин рассматривает как «восстановление средневековой монокультуры и монообщества» в современной России [Ibid: 56].
349
Михаил Эпштейн рассматривает возрождение православного христианства в ситуации российского «пост-атеизма» как признак неоязычества («neopaganism»), сочетающего идею русского народа-богоносца с государственнически-военными устремлениями [Epstein 1999: 380]. «В этом контексте православие выступает воинствующей формой патриотизма, с незапамятных времен призванной оборонять Святую Русь от „ересей“ иудаизма, католицизма, масонства и прочих „иностранных зараз“» [Ibid]. Именно эту форму «православной архаики» [Ibid] и берет на вооружение Юдсон в своей дискурсивной антиутопии.
350
Боян Манчев определяет коммунизм как «проект переноса всего политического потенциала в коллектив»; соответственно, коммунистическая утопия стремится «растворить [государство] в общинном теле народа» [Manchev 2005: 104]. В рамках мрачного средневекового мира Юдсона «чистая имманентность органического тела» [Ibid: 105] народа, которая фактически исключает существование политического государства, проявляется в инстинктивной ненависти к чужакам, объединяющей режим и народные массы.
351
Контаминация Григория Сковороды и Тараса Шевченко – двух главных национальных поэтов Украины, в постсоветское время поднятых на щит нового национализма.
352
Намек на неписаное правило ограничения доступа для евреев в советские вузы. Такие ограничения существовали, как известно, как до, так и после революции.
353
Сочетание двух еврейских признаков в глазах христиан: обрезание и «пришепетывание», последнее – пренебрежительная характеристика звучания идиша.
354
Христианское суеверие, согласно которому евреи используют кровь христианских детей для приготовления мацы.
355
Здесь циркулировавшее в советской печати начала 1953 года выражение «убийцы в белых халатах» дополняется словом «маска» – в частности, в память о кампании против космополитизма конца 1940‐х годов, когда евреев клеймили вредителями и предателями, прячущимися под масками.
356
Сама школа, «церковно-приходская гимназия имени иеромонаха Илиодора» [Там же: 40], – смесь древнерусской молельни и типичной советской школы, пародийный отзвук постсоветских школьных реформ. Учительницы – угрюмые тетки в ватниках и шерстяных платках с почерневшими от работы грубыми руками – символизируют малообразованных работников советских школ, а еще больше совхозов. Они травят Илью как очевидного очкарика-интеллигента.
357
Тем самым Юдсон подключается к знаковой рецепции цитаты Тредиаковского–Радищева в русской культуре: многослойный интертекст выражен в форме «цитирования цитаты» (об этом см.: [Smirnov 1983: 286 f.]).
358
Об автореференциальных механизмах и «символической монотонности» советских культурных практик см. [Rolf 2010: 174–182] и [Юрчак 2014: 74 f.].
359
Ср. смешанную цитату из Пушкина и Блока в восклицании Ильи, покидающего Россию: «Боже, как грустна ваша Россия (здесь и далее курсив мой. – К. С.). Что ни прорубь – везде колдуны с мертвым взором…» [Юдсон 2005: 236]; цитаты из Некрасова в перечислении московских районов: «…Чертаново, Беляево, Неурожайка тож» [Там же: 180] или из Хлебникова «Дохлебал тюрю из кастрюльки […] уложил в кузов пуза» [Там же: 219]. Как деконтекстуализация, так и модификация/монтаж процитированных фрагментов могут иметь семантико-культурную нагрузку. Так, замена слова «наша» словом «ваша» в пушкинской цитате показывает навязанную внеположность евреев русскому национальному дискурсу. В момент эмиграции такая инаковость сменяется сознательным ироническим дистанцированием.
360
При этом рассказчика особенно занимают риторические понятия: «Русское Ханство – экая катахреза! – а ведь было же… Так и Московская Синагога, сей злой оксюморон…» [Там же: 150].
361
Игорь Смирнов о Владимире Сорокине: «Произведение возвращается […] из современности в преодоленное, отмершее дискурсивное прошлое» [Smirnov 1999: 66].
362
О вырождении в 1980–1990‐е годы деревенского дискурса в национал-шовинистическую идеологию, а также в литературную стилизацию пишет Галина Белая [Belaia 1992]. Юдсоновская пародия реагирует более всего именно на эти формы уплощения и идеологизации литературного жанра.
363
Юдсон анализирует феномен, который Евгений Добренко рассматривает как истерию ненависти в официальной советской военной литературе и риторике, – «пространство чистой аффектации, прямой истерики» [Добренко 1993б: 275].
364
О параллели между консервативной идеологией русских деревенщиков и сталинизмом см.: [Гройс 2003: 103].
365
Одного из своих апогеев эта альтернативная духовность российской действительности и русской православной традиции достигает в живописи Михаила Нестерова (1862–1942). Дирк Уффельманн [Uffelmann 2010] говорит о метастазировании православных (кенотических) моделей в секулярные или парарелигиозные культурные сферы (например, советский коммунизм) и упоминает «шаблон святости, в русской культуре […] определяемой через обособление». «Дистанцирование от институциональной церкви» запускает «механизм исключения» [Ibid: 522]. В силу бескомпромиссного преследования еретиков православной церковью «секты [составляли] […] особенно характерную черту русской религиозной истории начиная с 14 века» [Ibid: 539]. У Юдсона вероотступничество и святость подполья образуют зловещий симбиоз – верное отражение господствующей, но испытывающей вечную угрозу снизу власти-религии.
366
Ева Медер тоже исследует – на примере семейских сект – тайные религиозные практики старообрядцев вплоть до постсоветского времени [Maeder 2007]; см. также: [Panchenko 2012]. Однако у Юдсона архаические религиозные обычаи с их единством догмы и ритуала [Maeder 2007: 296], страшные истории о каре, искуплении и апокалипсисе, наконец, распространение дохристианских магических заговоров и обрядов [Ibid: 296–305] работают на парадоксальный символический симбиоз «истинно верующих» и вероотступников, а также власти и (всегда расколотого) народа.
367
В амбивалентной истории восстановления московского храма Христа Спасителя в 1990‐е годы Светлана Бойм видит показательную преемственность между фантазиями дореволюционной, советской и постсоветской власти [Boym 2001: 100–108].
368
Юдсон, конечно, не первый антиутопист, который проводит подобные параллели. Со ссылкой на [Deutschmann 1998] и [Ryklin 1998] Вольфганг Киссель и Дирк Уффельманн пишут о «сравнительной психопатологии немецкого и русского посттоталитарного менталитета» в творчестве Сорокина [Kissel/Uffelmann 1999: 35]. Ср. также предпринятый Тине Рёсен анализ романа «Они» (2005) Алексея Слаповского: [Roesen 2009].
369
Ср.: «4. Бросайте мусор только в мусорные контейнеры. 5. Не вешайте белье на балкон. 6. Не сажайтесь на умывальники. Они оторвутся и этот ремонт обойдется дорого. 7. Не берите с собой никаких предметов потребления […] это воровство. 8. Пользуйтесь туалетами в коридорах. 9. Применяйте, пожалуйста, туалетные щетки» [Юдсон 2005: 276].
370
Сорокин еще в 1994 году написал «Месяц в Дахау», переносящий национал-социализм в 1990‐е годы.
371
В этом контексте также символичен образ щели: солдат подземной армии Илья лежит «в кошерном нумерованном рву Пятой щели» [Юдсон 2005: 371]; номер намекает на дух военной дисциплины и опять-таки вызывает ассоциацию с концлагерем.
372
Интересно, что высказывания Юдсона в более поздних интервью противоречат иронически-антиидеологическому пафосу его романа. В беседе с Инной Шейхатович для интернет-издания Pravda.ru в октябре 2015 года он использует остроумную словесную игру своей прозы, похоже, лишь для того, чтобы выразить антиисламскую и антиевропейскую, националистически-произраильскую позицию (Михаил Юдсон: Гетто – это маленькая жизнь // Pravda.ru. 29 окт. 2015 [https://nasledie.pravda.ru/emigration/29-10-2015/1280159-udson-0/]).
373
Ср. размышления Евы Хаусбахер о советском государстве как колониальной институции: «Хотя русско-советская идеология семьи народов […] на первый взгляд имеет черты, во многом напоминающие о транскультурной модели нации, при ближайшем рассмотрении она оказывается колониально-имперской, наследующей риторику чрева, заложенную в национальном стереотипе матушки Руси и связанную с […] сакрализацией территории» [Hausbacher 2009: 39 f.].
374
См. перечень текстов в библиографии.
375
Ева Хаусбахер противопоставляет постколониальность постколониализму как явление не исторического, а дискурсивного порядка. Тем самым она подчеркивает деконструктивистский посыл текстов, не обязательно связанных с историческим постколониализмом: «Там, где (пост)колониализм отказывается от своей исторической привязки и социокультурных оснований и используется как метафора, наблюдается четкая параллель с постструктуралистскими теоремами. [Эту] постколониальную модель мы обозначаем термином „постколониальность“» [Hausbacher 2009: 127].
376
Об этом романе в общих чертах см.: [Grübel/Novikov 2008: 198–199].
377
Словесные образования вроде «жидплощадь» напоминают субверсивную стилистическую мимикрию в романе Михаила Юдсона «Лестница на шкаф».
378
Фанон опирается здесь на «Размышления о еврейском вопросе» Жан-Поля Сартра: так замыкается круг наших культурно-исторических контекстов.
379
Так Бхабха определяет перенос Фаноном лакановского концепта в область социального критического анализа (см.: [Wolter 2001: 37]).
380
То есть как Яков Абрамович.
381
Харриет Мурав пишет в связи с этим о вытеснении индивидуальной памяти медиализированной, протезной. Мелихов, по Мурав, «подчеркивает протезность медиации, трансфера и субституции». В цитате про Шагала «коммодифицированный образ подменяет собой живую личную память» [Murav 2003: 179]. Рассмотренный мною выше на материале еврейской (пост)мемориальной литературы феномен раздробленности еврейского (припоминающего) субъекта изображается Мелиховым в конце романа, где описывается свалка на Кировских островах, что на окраине Петербурга. Мурав справедливо интерпретирует эту заключительную сцену как материальное воплощение разрушенной еврейской памяти и коллапса всей советской цивилизации: «Прошлое фрагментарно, отброшено и архаично; оно оказалось на свалке – неупорядоченный список объектов […], выступающих знаками разрушенной цивилизации» [Murav 2011: 329]. Выбракованное и периферийное функционирует здесь так, как это формулирует Алейда Ассман: в качестве метафоры всего того, чего не сохранил официальный дискурс и что со временем десемиотизировалось (см. «(Пост)мемориальное еврейское повествование», с. 313).
382
Еврейство выступает социальным признаком не только извне, но и в самосознании рассказчика: «Ведь даже меня, своего в доску, не удалось растворить до гробовой доски – все равно мне не удается вспомнить себя без книги» [Мелихов 1994: 58]. Здесь тематизируется описанная в начале этой книги утрата русскими евреями примордиальных этнических черт, которые в ходе ассимиляции превратились в набор социокультурных примет (здесь это стремление к образованию).
383
Демонстрируя иррациональность стереотипов, рассказчик перечисляет противоположные отрицательные качества, приписываемые евреям: «Для наивного взгляда разные еврейские свойства вообще исключают друг друга – я и сам в дальнейшем намереваюсь сыпать такими, казалось бы, противоположными этикетками, как „еврейская забитость“ и „еврейская наглость“, „еврейская восторженность“ и „еврейский скепсис“, „еврейская законопослушность“ и „еврейское смутьянство“» [Там же: 14].
384
Но Мелихов обращает острие своей политической сатиры и на самих евреев с их идеей собственной избранности и стереотипом о русских варварах и реакционерах (см.: [Мелихов 1994: 201]).
385
В романе Юдсона, как мы видели в предыдущей главе, Достоевский тоже выступает символическим выразителем русской национальной идеи и, соответственно, основоположником русского национализма. Мелихов воспроизводит и анализирует антисемитскую аргументацию Достоевского, не в последнюю очередь его профетический пафос страдания – и высмеивает его, имитируя стиль «изобретателя всемирной отзывчивости-с русского человека-с» [Мелихов 1994: 199–200].
386
В посткоммунистической литовской литературе, в частности в романе Ричардаса Гавялиса «Vilniaus pokeris» («Вильнюсский покер», 1989), раскрывается, как показывает Виолета Келертас, похожая психологическая картография постколониального индивидуума. Гавялис иронически дезавуирует возвращение национальных мифов в новом независимом государстве: «Он отказывается принимать типичные националистические мифы, резко критикуя homo lithuanicus и осмеливаясь нападать на священность Вильнюса и таких его икон, как башня Гедимина» [Kelertas 2006: 258].
387
Для Михаила Крутикова [Krutikov 2003], который исходит не столько из значимой аналептической композиции романа, сколько из реализма письма Карабчиевского, главным является тезис, что фигура деда остается для протагониста периферийной и не влияет на его самоидентификацию: Александр Зильбер, по Крутикову, – космополитически мыслящий русский интеллектуал.
388
Клаус Хёдль описывает архетипического европейского еврея как «нервного антигероя» [Hödl 1997: 167]; в (псевдо)научном дискурсе позапрошлого рубежа веков считалось, что евреи склонны к «женской болезни» истерии, а также к неврастении ([Ibid: 202–205], см. главу «Еврей-истерик»). См. также статью Моше Циммермана «Мускульные евреи versus нервные евреи» («Muscle Jews versus Nervous Jews») [Zimmermann 2006].
389
О «Винете» см.: [Finkelstein/Weller 2012].
390
С одной стороны, это название происходит от пренебрежительного русского «жид», с другой – от того же слова, служившего нейтральным обозначением евреев в древнерусском языке (и остающегося таковым в других славянских языках). Таким образом, в гибридном тексте Юрьева архаическое сливается с дискурсом антисемитизма настоящего, образуя многослойную систему двойственных, «мерцающих» знаков.
391
Христианская Пасха совпадает с еврейским праздником Песах, который для верующих Жидят составляет главное событие года, напоминая об исходе евреев из Египта – этой хронологической цезуре, отзывающейся во времени действия романа – кануне перестройки.
392
Две части романа напечатаны в книге зеркально друг другу, так что читатель, чтобы перейти к следующей части, должен перевернуть книгу, – авторефлексивная игра, удваивающая и переворачивающая текст не только поэтически и структурно, но и иконически. Эта игра отражена в названии одной из глав части о Жидятах – «Две скрыжали, на которых написано было с обеих сторон» [Юрьев 2000: 54].
393
О принадлежности (с моей точки зрения, совсем не очевидной) Жидят к так называемой «ереси жидовствующих» – возникшим в XV веке в Новгороде и Москве религиозным сектам, которые откололись от русского православия и отчасти проповедовали иудаизм, – пишут, в частности, Лев Айзенштат [Айзенштат 2001], Валерий Шубинский [Шубинский 2008] и Мириам Финкельштейн [Finkelstein 2015].
394
Мириам Финкельштейн трактует этот постепенно разрушающийся дом как аллегорию Советского Союза: «Начинающееся разрушение здания метафорически указывает на будущий распад Советского Союза» [Finkelstein 2015: 239].
395
Мириам Финкельштейн и Нина Веллер определяют место действия другого романа Юрьева, «Винета» (название судна), как «„эпистемологическое пространство“ – корабль памяти и воспоминания» [Finkelstein/Weller 2012: 193]. Пакгауз, в котором предаются своим мыслям и воспоминаниям оба мальчика в «Полуострове Жидятине», – это тоже эпистемологическое пространство, а сам текст – культурный архив («пакгауз» культурной памяти) того, что еще уцелело, – советско-еврейского микрокосма. Как было показано ранее, в постмемориальной и «постисторической» литературе пространственные метафоры памяти – одно из основных средств семантизации внутренних процессов.
396
Ср.: «В его [Язычника] представлении советское пространство формируется квазиеврейскими реалиями вроде газеты Советиш Геймланд, мифами и советским бытом» [Terpitz 2008: 265].
397
Этот семейный апокриф содержит пародию на хасидские истории, в которых важнейшую роль играют чудесные деяния и многозначительные изречения легендарных цадиков. Так, молчащий цадик говорит в первый и последний раз в 1905 году, когда его, спасая от погрома, сажают в запряженную старым мерином тележку. Фраза, которую он произносит в этот момент и которую потом будет толковать весь еврейский мир, звучит так: «Тпру-у, приехали» [Юрьев 2000: 48]. После этого он умирает.
398
Этот вставной анекдот Юрьев, вероятно, позаимствовал из диссидентского романа Василия Аксенова «Ожог» (1969–1975), написанного в годы советской антисионистской травли. Там пьяница в очереди за пивом тоже произносит: «В Израиле не наши евреи воюют, а древние!» [Аксенов 2000: 121].
399
При этом реальные социокультурные черты советских евреев и их травля составляют трагикомическое единство в эпизоде, в котором мальчик, находясь в пионерлагере, исправляет ошибку в написанном рядом с его именем словом «говно», подтверждая тем самым бóльшую образованность еврейских детей, но также и пресловутую еврейскую склонность к сомнениям и рефлексии: «Теперь я уже сомневаюсь, правильно ли я это сделал, может, русским детям все же лучше знать, как на их родном языке пишется „говно“?» [Юрьев 2000: 80].
400
О мифе о еврейских ритуальных убийствах в славянских культурах см.: [Белова/Петрухин 2008: 205–258]; об антииудаизме и его жанрах в дореволюционной России см.: [Livak 2010: 16–21]. Товарищи Язычника также рассказывают страшные истории о цыганах, которые якобы заманивают к себе маленьких детей и делают из их мяса начинку для пирожков [Юрьев 2000: 75]. Детский фольклор выступает трагикомически точным отражением фантазий взрослых.
401
Библейские генеалогии, возводящие собственный род или род соседей к первым людям или праотцам, укоренены и в мифических историях славянских сельских общин об общем происхождении. Так, некоторые деревенские жители по сей день связывают происхождение своих еврейских соседей с двенадцатью коленами Израилевыми [Белова/Петрухин 2008: 64–76]. Сознание своей генеалогической избранности, симультанность разновременных пластов играют ключевую роль для молодого героя Юрьева.
402
Ср. употребляемые им слова «великоденная», «искони», «девки», «кашеварить», «суконце», «шкилет», «поганские», «Ленин-Город» (Ленинград), выражения «об левую руку», «исподнее небо», «заказано накрепко», «русская земля» и т. д. [Юрьев 2000: 7–13]. Современный русский язык мальчик воспринимает как иностранный: «…загорóдная жерда на колесике, по-русски „шлагбаум“» [Там же: 14]. Комизм этого пассажа заключается в том, что немецкое заимствованное слово принимается за русское (т. е. «далекое» чужое идентифицируется как «близкое», более знакомое чужое – одна из многих предпринимаемых юным рассказчиком попыток перевода). Слово «крестьянство» пишется здесь как «христьянство» [Там же: 11]; ср. церковнославянское «хрести
403
Накануне своего еврейского совершеннолетия мальчик должен самостоятельно сделать себе обрезание.
404
См. «Модели времени и пространства в нонконформистской еврейской литературе», с. 256.
405
Так, мальчик говорит о предстоящем построении коммунизма «во всех Римских странах» [Там же: 106]; в его рассказе о еврейском бегстве из Египта египтяне тоже называют себя римлянами.
406
«Мультидискурсивность и семантическая избыточность» [Finkelstein/Weller 2012: 205] – характерные приметы юрьевского стиля; Олаф Терпиц рассматривает повествование «Полуострова Жидятина» как «по видимости случайное нанизывание нарративов и дискурсов», а в другом месте – как «наложение противоположных культурных понятий, представлений и артефактов», которое обнажает «пространственно-временные разрывы» [Terpitz 2008: 266–267, 273].
407
В своем комментарии к тексту уже знакомый читателю профессор Гольдштейн говорит о явственной здесь мифопоэтической перспективе тайных евреев, для которых «история существует […] как бы одновременно» [Юрьев 2000: 132]. «Приоритетная структура их сознания» [Там же] ломает каузальную мысль рационалистической эпохи, утверждая относительную концепцию времени. Место определяет (сакральную) структуру времени, совмещая «парадигматически несовместимые культуры» [Там же: 133]. И комментарий, и приведенный далее глоссарий демонстрируют черты «гибридного юмора» (см. далее), свободно смешивая литературоведческий анализ с пародийными замечаниями и бурлескными образованиями. Иноязычные выражения в глоссарии, например, переводятся то на русский, то на английский, причем выбор языка ничем не мотивируется [Там же: 144].
408
В главе «Фольклорная антропология: как можно распознать еврея?» авторы монографии о еврейском мифе в славянских культурах [Белова/Петрухин 2008] рассматривают созвучные этому эпизоду народные представления. Евреям приписываются необычные телесные признаки, нередко аномалии, особый запах, сходство и тесная связь с животными, нечеткая дикция и связь с чертом/нечистым (см.: [Там же: 262 f., 293–295]).
409
Эта субверсивная сказовая устность проявляется в многочисленных непристойностях, вульгарных выражениях, а также в отклонениях от грамматико-синтаксической нормы. Подчас она комична, например, когда на первый план выходит тавтологичная антириторика юного рассказчика: «…Ну и ладно, а чего она?!! Сама как это самое, а думает – я ей этот самый?!» [Юрьев 2000: 91]. В этой афатической фразе семантически пустое слово «сама» («самое», «самый») заменяет разные полнозначные лексемы, производя чисто экспрессивное, а-семантическое сообщение. В других местах мальчик рассуждает о сленге: «Ну, я обтекаю, сказал бы Пустынников-Пуся […]. Обтекает он не в прямом смысле, а в смысле „торчит“ или „тащится“» [Там же: 92]. Комизм основан на том факте, что жаргонные выражения поясняются здесь при помощи перевода не на нормативный язык, а на другой жаргон, т. е. на тот же самый социолект. Тем самым иронически, авторефлексивно изображается непереводимость самого романного языка. Периодические экскурсы рассказчика в собственную физиологию, вульгарные обозначения сексуального, мотивы мочеиспускания, пассажи о половых органах довершают слом культурных табу.
410
С психологической точки зрения маниакальная монотонность письма объясняется горячечным бредом рассказчика.
411
Здесь явно сталкиваются отсылки к поп-арту – знаменитой работе Энди Уорхола «Диптих Мэрилин» (1962), тоже воплощающей момент смерти и прием медийной репродукции символов, – и к соц-арту.
412
Таким зеркалом выступает, в частности, подобный лабиринту чердак дома: «…с ума съедешь, потеряешься» [Юрьев 2000: 8]. И точно так же теряешься в ризоматической повествовательной структуре романа, чья поэтика соответствует указанной пространственной метафоре (о «дискурсе лабиринта» в литературе см. выше цитату из [Schmeling 1987]).
413
Метафикционально прежде всего приложение-комментарий, но такова и самоироничная интертекстуальность всего текста, зеркальная структура книги и характерная для поэтики Юрьева игра с иконическими приемами.
414
Яков Цигельман (1935–2018) вырос в Ленинграде и жил там до эмиграции в Израиль в 1974 году. В 1970–1971 годах писатель работал в Биробиджане – административном центре Еврейской автономной области (см. «Яков Цигельман: „Похороны Мойше Дорфера“», с. 226).
415
О толковании Торы методом д(е)раш см. Введение.
416
Еврейская практика библейской экзегетики у Цигельмана сочетается с постмодернистской поэтикой пространных (фиктивных) комментариев, продолжающих рассказывать историю дальше, например, в примечаниях: ср. [Lunde 2006] о «сверхточном, почти наивном комментарии» в «Подлинной истории „Зеленых музыкантов“» (1999) Евгения Попова и рассказах Вячеслава Пьецуха [Ibid: 75–79, здесь 78]; Лунде пишет о клише постмодернистской «литературы сносок» [Iid: 79].
417
Ср.: «Шебсл-музыкант кратко описан в книжке Иехезкеля Котика, которая называется „Зихройнэс“ („зихронот“ – воспоминания). Эта книжка до недавнего времени была только на идише, недавно переведена на русский язык. Я когда-то делал переводы каких-то кусков для себя. А потом, копаясь в своих бумагах, нашел там своего героя, Шебсла, и краткую историю его встречи с царским наместником» [Топоровский 2010].
418
Иван Федорович Паскевич – реальное историческое лицо: российский император Николай I пожаловал ему титул светлейшего князя Варшавского за подавление польского восстания 1831 года.
419
Короткий отрывок «142. А Шебсл уж вступил» [Там же: 150] искусный толкователь реб Довидл впоследствии толкует так: «…куда он вступил? Он вступил в отношения с кричавшими „Стой!“» [Там же]. Здесь не только вольно придумывается микросюжет, но и глаголу «вступить» приписывается фигуративное значение – создается зевгма. Похожим образом целые линии аргументации в комментариях опираются на коннотации, аллюзии или интертекстуальные аналогии (ср., например: [Там же: 158]).
420
Исключительная плотность чудесных событий пародирует сюжет хасидской вундер-майсе с ее религиозно-развлекательным характером. Например, когда Шебсл влетает в кабинет графа, тот превращается в буддистское божество, его окутывает облако, после чего Шебсл начинает излучать свет [Там же: 259].
421
Образ встреченного путешественниками краснолицего Менаше бен-Йосефа из потерянных колен Израилевых иронически отсылает к новоизраильскому военному дискурсу и типу «мускульного еврея». Вместе с тем ему присущи черты неотесанного русского Ивана и былинного богатыря. Он носит меховую шапку, пояс с львиной головой и держит в руке стальные вилы; от его крика прячутся дикие звери и пресмыкающиеся. Он превозносит героические победы своего племени над врагами-язычниками, окружающими краснолицых евреев со всех сторон, и пытается убедить Шебсла и его спутников отказаться от жалкого прозябания в диаспоре и остаться с ними. Однако Шебсл отклоняет предложение «исцелиться». Разговор Менаше бен-Йосефа и Шебсла напоминает о двух конкурирующих со времен возникновения сионизма концепциях еврейской истории: жизнь во времени (в еврейской диаспоре с надеждой на искупление) и жизнь в пространстве (собрание на Святой Земле и отмена сакрального времени) (см.: [Там же: 284–289]). В конце Менаше бен-Йосеф побеждает дракона и спасает лошадей путешественников: взаимная помощь хотя бы свидетельствует о еврейской солидарности.
422
Анализируя сны героев майсе, ребе ссылаются на свои медицинские знания, фрейдовское толкование сновидений, юнгианскую теорию коллективного бессознательного, психиатров Роберта МакКарли и Дж. Аллана Хобсона (чья фамилия приводится в ошибочном латинском написании Gobson), иудаистские трактаты и особенно каббалу [Там же: 230–233]. В одном месте экзегеты упрекают автора, что мотив сна тот украл у Борхеса. В ответ автор заверяет, что никогда не читал Борхеса [Там же: 76]. Отсылка к Борхесу и его текстам связывает дискурс о сновидениях с практикой интертекстуальности и одновременно – с ориентированным на многозначность и ассоциации методом еврейской экзегетики д(е)раш, составляющим еще один важный претекст этого романа.
423
«Еврейское мидрашное понятие ал-тикрей буквально значит „не читай“, что является сокращенным вариантом фразы „не читай (этот текст) вот так, а, переставив или заменив буквы в библейском тексте, читай этот стих или это слово по-другому и с другим намерением“. В талмудической и мидрашной литературе около 180 ал-тикреев» [Rotenberg 2009: 29].
424
Эту историю см. в: [Das Ma’assebuch 2003: 297–298].
425
Перечисление цадиков – духовных учителей хасидов, – съезжающихся на важное событие из соседних или отдаленных местностей, опять-таки маркирует внутреннюю еврейскую перспективу, для которой география определялась местами, связанными с еврейской святостью. Города и местечки приобретали у евреев известность и наделялись особым характером именно как места проживания или посещения «учителей» – и, соответственно, места разных традиций/школ хасидизма. Ср. следующие речевые жесты: «Приехал Турийский ребе со своей свитой хасидов! Турийские хасиды замкнуты, угрюмы и необщительны! […] Вот Чернобыльский ребе приехал! […] Едет Острожский ребе! Он поражает своим молитвенным пафосом! […] И Миропольский цадик едет! […] Вот он, Бердичевский ребе, ходатай пред Всевышним за каждого еврея и за всех евреев вместе!» [Цигельман 1996: 221]. В этом прямо-таки плакатном перечислении типичных черт разных хасидских центров, однако, дает о себе знать и этнографический взгляд извне (см. далее).
426
Возможно, этот эпизод вдохновлен пародийным путешествием Вениамина Третьего в Святую Землю из знаменитого плутовского романа Шолема-Янкева Абрамовича (Менделе Мойхер-Сфорима) «Majsses binjumin naschlischi» («Путешествие Вениамина Третьего»).
427
«Художественным введением в еврейство и хасидизм» – жанровое определение, применимое и к тексту Цигельмана, – Вальтер Кошмаль называет книгу Иржи Мордехая Лангера «Devět bran» («Девять врат», 1937), в которой «просвещение» еврейского (и не только еврейского) читателя по вопросам еврейских культурных реалий и обычаев (Тора, еврейские блюда, заповедь ритуального омовения и др.) в игровой форме, с юмором перемежается с «первичным текстом» хасидского повествования (см.: [Koschmal 2010: 195–198, 239 f.]). Без сомнения, эта просветительская историко-культурная стратегия – симптом утраты: эпоха, в которую исчезновение еврейского мира Восточной Европы становится реальностью (у Лангера), смыкается с уже наступившей эпохой еврейской постистории (у Цигельмана). Такие периоды требуют от еврейских авторов припоминания, реконструкции и сохраняющего обновления.
428
За этим кроется нечто большее, чем постмодернистская игра с культурными дискурсами: Цигельман и здесь намекает на определенную черту еврейского менталитета. Леонид Ливак приводит анекдот о галицийском раввине, рабби Хаесе, который, узнав о смерти Гёте, читает в синагоге кадиш по «ребу Гёте»: «Суть анекдота заключается в присвоении традиционной еврейской общиной нееврейской культурной величины на ее собственных условиях» [Livak 2010: 282–283].
429
Эти цитаты порой вымышленные; ср. пространную «цитату» из Мишеля Фуко, пародийно подражающую сложному стилю французского философа; Фуко приписывается и наивная сентенция, напоминающая об античных максимах: «В природе должна господствовать непрерывность» [Цигельман 1996: 29].
430
Этот «саморазоблачительный» прием можно описать как «иронию над вымыслом», состоящую во «втягивании читателя в амбивалентную игру» [Wolf 1993: 236] на границе фикции и факта текста.
431
Об употреблении металепсиса (métalepse) см.: [Женетт 1998].
432
О «контаминации повествовательных уровней» – этом «нарративном коротком замыкании» – на примерах из современной англоязычной прозы см.: [Wolf 1993: 349–372].
433
О методе интертекстуальной библейской экзегетики, которая сложилась несколько десятилетий назад под влиянием постструктурализма, см. в общих чертах: [Seiler 2006].
434
Ср. эту цитату во Введении, с. 14.
435
В Западной Европе и Америке этой позиции соответствует ностальгический нарратив о довоенной жизни в местечках.
436
В квадратных скобках указан год использованного издания; год написания, если он точно известен и не совпадает с указанным, приводится в круглых скобках.
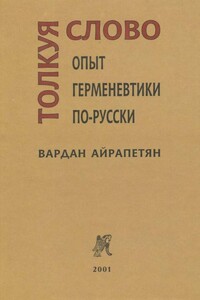
Задача этой книги — показать, что русская герменевтика, которую для автора образуют «металингвистика» Михаила Бахтина и «транс-семантика» Владимира Топорова, возможна как самостоятельная гуманитарная наука. Вся книга состоит из примечаний разных порядков к пяти ответам на вопрос, что значит слово сказал одной сказки. Сквозная тема книги — иное, инакость по данным русского языка и фольклора и продолжающей фольклор литературы. Толкуя слово, мы говорим, что оно значит, а значимо иное, особенное, исключительное; слово «думать» значит прежде всего «говорить с самим собою», а «я сам» — иной по отношению к другим для меня людям; но дурак тоже образцовый иной; сверхполное число, следующее за круглым, — число иного, остров его место, красный его цвет.
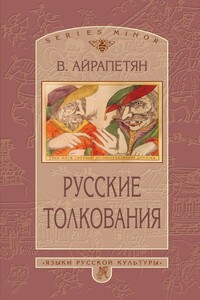
Задача этой книжки — показать на избранных примерах, что русская герменевтика возможна как самостоятельная гуманитарная наука. Сквозная тема составивших книжку статей — иное, инакость по данным русского языка и фольклора и продолжающей фольклор литературы.

Сосуществование в Вильно (Вильнюсе) на протяжении веков нескольких культур сделало этот город ярко индивидуальным, своеобразным феноменом. Это разнообразие уходит корнями в историческое прошлое, к Великому Княжеству Литовскому, столицей которого этот город являлся.Книга посвящена воплощению образа Вильно в литературах (в поэзии прежде всего) трех основных его культурных традиций: польской, еврейской, литовской XIX–XX вв. Значительная часть литературного материала представлена на русском языке впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.