Избранное - [4]
Тревожные предчувствия и сознание опасности складывающейся в стране ситуации наложили отпечаток на повесть «В бурю» (1955). Сомнения и разочарованность звучат в словах ее героя Шандора Бота, молодого архитектора, юношеские мечты которого — строить большие и светлые дома-дворцы — оказались неосуществимыми. От мрачной реальности, вынуждающей его проектировать тесные, по нуждам времени, квартирки или перегородки для коммунальных муравейников, он находит прибежище у вод Балатона, в поисках романтических приключений и схваток со стихиями. Было бы неверным, однако, в этой повести, рассказывающей о рискованном похождении Шандора Бота, который во время шторма отправляется на своей яхте на выручку тонущим, — видеть лишь признаки разочарованности и внутренней борьбы писателя. «Есть в этой схватке со стихией и более общее, иносказательное значение, — справедливо отмечает венгерский критик. — Шандор Бот символизирует и человека несдающегося, борющегося — невзирая на бури! — за себя и спасение других» (Р.-Г. Хайду).
Произведения первой половины 50-х годов и публицистическая деятельность Имре Шаркади убедительно свидетельствуют, сколь серьезно воспринимал он возложенную на себя миссию социалистически ангажированного художника. Именно потому столь глубоко потрясли его события контрреволюции 1956 года, воспринятые им как национальная катастрофа. Годы потребовались писателю для преодоления овладевшей им творческой депрессии. Годы, проведенные в упорной работе, в восстановлении преемственных связей с творчеством предшествующих лет и напряженных поисках нового, более глубокого осознания конфликтов современности. В этот последний — самый сложный и, вместе с тем, самый результативный в конечном итоге — период творчества Шаркади имели место и возвращения к пройденному (например, в пьесе «Симеон Столпник» — переработке повести 1948 года); и борьба за сохранение лучших реалистических традиций венгерской литературы (в статьях о Жигмонде Морице). Почти одновременно выходят из-под пера писателя идиллические картины из деревенской жизни («На хуторе», «Всему своя цена») и психологически тонкий рассказ «Выигрыш» (1959), в котором автор выносит безжалостный приговор беспомощно влачащимся по жизни Лайошам Ковачам, не умеющим толком распорядиться даже выигранным случайно по лотерее миллионом.
Итогом последних лет творчества Шаркади-прозаика явились две крупные повести — «Записки доктора Шебека» (1960) и «Трусиха» (1961). В «Записках…» писатель снова, но теперь под иным, не социально-психологическим, как в «Звере с хутора», а морально-этическим углом зрения обращается к проблеме чужеродного в социалистическом обществе «антигероя» — человека, который, как пишет автор в предисловии к повести, «несмотря на все свои выдающиеся качества, по каким-либо причинам не приемлет социализма и рано или поздно терпит из-за этого крах».
«Записки доктора Шебека» задуманы Шаркади как своего рода современный аналог лермонтовского «Героя нашего времени». Талантливо и ярко раскрыты в этой новости характер и мироощущение героя — наделенного острым умом и внешней привлекательностью молодого врача, который в свои тридцать с небольшим лет успел уже охладеть к своей работе, окружающим его людям, да и к себе самому. Жизнь его сводится к удовлетворению своих сиюминутных желаний, погоне за рискованными приключениями и любовным интригам. Эгоизм, равнодушие к людям и беспечность Шебека приводят в повести к трагической развязке: Золтан становится виновником гибели любящей его женщины.
В негативном мироощущении доктора Шебека и Печорина, при всей художественной разновеликости этих образов, действительно есть много общего — их эгоцентризм, бесцельное геройство, презрительное отношение к моральным нормам общества. Однако является ли доктор Шебек прямым «наследником» лермонтовского героя, и правомерно ли такое, проводимое самим автором, сопоставление? Ведь противоречие Печорина — «противоречие между глубокостию натуры и жалкостию действий» (Белинский) — порождено социальными условиями эпохи безвременья, сделавшей «лишнего человека» типическим явлением русской действительности прошлого века. Противоречие же Золтана Шебека — это видно и из повести — прежде всего, внутреннее, идущее от личного неумения, да и нежелания героя, отбросив порочный индивидуалистский принцип «жить только для себя», встать вровень с требованиями и идеалами своей, в корне отличной от печоринской, эпохи.
Проблемы нравственного самосознания и ответственности человека перед самим собой нашли наиболее полное воплощение в повести «Трусиха»», где, в отличие от «Записок доктора Шебека», критика бесцельного, бездуховного существования сочетается уже и с утверждением подлинных социалистических жизненных ценностей.
Героиня повести Эва пользуется независимостью, предоставленной ей положением в обществе — она жена довольно посредственного, но хорошо зарабатывающего скульптора. Праздный образ жизни и развращенность окружающего Эву богемного мира подтачивают ее моральные устои, однако не могут вытравить из ее души безотчетного стремления к иной, более осмысленной и содержательной жизни. Такую возможность дает ей встреча с молодым инженером Иштваном Сабо. Но воспользоваться этой возможностью Эве не хватает мужества. Храбрая женщина, которой ничего не стоит взять голой рукой ядовитую змею, не находит в себе смелости расстаться с комфортом прежней жизни, чтобы избрать человечески более богатое, но будничное существование со всеми его заботами и трудностями. Обеспеченную, хотя и ненавистную ей жизнь «трусиха» Эва предпочитает достоинству и возможному счастью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
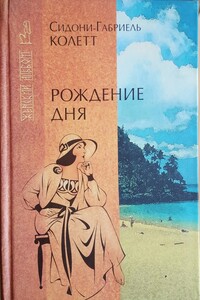
Сидони-Габриель Колетт (1873–1954) — классик французской литературы XX века. Ее произведения читали и читают во всем мире, романы переведены на все языки мира. Творчество Колетт поразительно многообразно — изящные новеллы-миниатюры и психологические романы, философские дневники и поэтические произведения, пьесы, либретто и сценарии… Но главное для писательницы — бесспорный талант, блистательные сюжеты и любовь женщины.В эту книгу включены романы «Рождение дня» и «Ранние всходы».
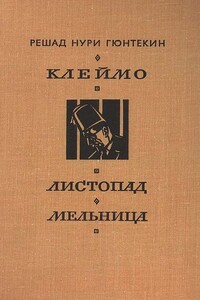
В книгу вошли три романа известного турецкого писателя.КлеймоОднажды в детстве Иффет услышал легенду о юноше, который пожертвовал жизнью ради спасения возлюбленной. С тех пор прошло много лет, но Иффета настолько заворожила давняя история, что он почти поверил, будто сможет поступить так же. И случай не заставил себя ждать. Иффет начал давать частные уроки в одной богатой семье. Между ним и женой хозяина вспыхнула страсть. Однако обманутый муж обнаружил тайное место встреч влюбленных. Следуя минутному благородному порыву, Иффет решает признаться, что хотел совершить кражу, дабы не запятнать честь любимой.
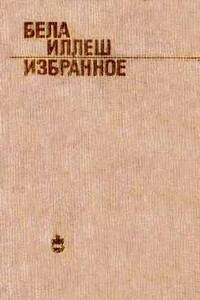
Книга состоит из романа «Карпатская рапсодия» (1937–1939) и коротких рассказов, написанных после второй мировой войны. В «Карпатской рапсодии» повествуется о жизни бедняков Закарпатья в начале XX века и о росте их классового самосознания. Тема рассказов — воспоминания об освобождении Венгрии Советской Армией, о встречах с выдающимися советскими и венгерскими писателями и политическими деятелями.
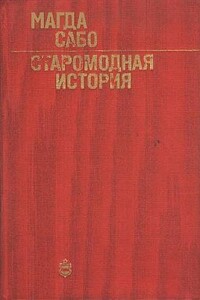
Семейный роман-хроника рассказывает о судьбе нескольких поколений рода Яблонцаи, к которому принадлежит писательница, и, в частности, о судьбе ее матери, Ленке Яблонцаи.Книгу отличает многоплановость проблем, психологическая и социальная глубина образов, документальность в изображении действующих лиц и событий, искусно сочетающаяся с художественным обобщением.

Очень характерен для творчества М. Сабо роман «Пилат». С глубоким знанием человеческой души прослеживает она путь самовоспитания своей молодой героини, создает образ женщины умной, многогранной, общественно значимой и полезной, но — в сфере личных отношений (с мужем, матерью, даже обожаемым отцом) оказавшейся несостоятельной. Писатель (воспользуемся словами Лермонтова) «указывает» на болезнь. Чтобы на нее обратили внимание. Чтобы стала она излечима.
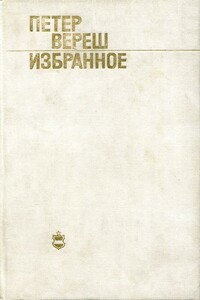
В том «Избранного» известного венгерского писателя Петера Вереша (1897—1970) вошли произведения последнего, самого зрелого этапа его творчества — уже известная советским читателям повесть «Дурная жена» (1954), посвященная моральным проблемам, — столкновению здоровых, трудовых жизненных начал с легковесными эгоистически-мещанскими склонностями, и рассказы, тема которых — жизнь венгерского крестьянства от начала века до 50-х годов.