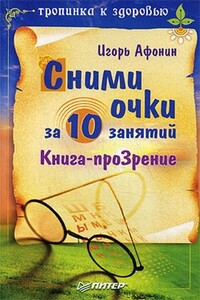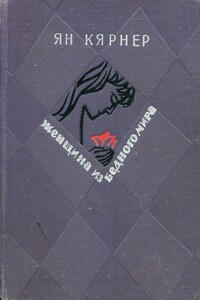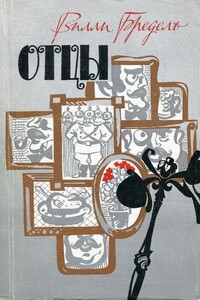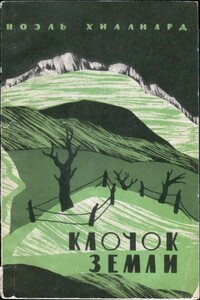В начале знаменитой псевдоностальгической книги Л. П. Хартли «Посредник» (про мальчика низкого сословия, который на золотом закате эдвардианской эпохи практиковал в пригласившей его на лето пожить «хорошей семье» черную магию, да так выпрактировался, что разом превратился в пуганного старикашку), автор говорит, что в те золотые дни о том, что завтра будет война, догадывался один Макс Бирбом. В наше время любому читателю, поглядывающему иногда на небо и понимающему что то в самом деле беременно чем-то новым, прочитать «Зулейку Добсон» будет полезно. (Не для того, чтобы готовиться к Третьей мировой, конечно же.)
Итак, что есть Зулейка Добсон? И Зулейка ли она вообще? В фонетическом предуведомлении автор предлагает звать ее на более восточный лад Зуликой. Мне, впрочем, кажется, что он издевается. С его стороны ждать издевательства приходится в любой момент. Я ее зову «Зулейкой», потому что так на русском зовут одну из героинь Байрона.
Так или иначе, 3. Д. есть ангелица мщения, посланная сословием гувернанток, чтобы истребить сословие благородное и благонравное, весь проклятый «Даутон Абби» за безупречность его манер и бесконечность его ада. Она — гувернантка, решившаяся на Подвиг: украсть посреди ночи Демоническую Рюмку для Яиц и другие фокусы, которые ей показал и сулил в качестве свадебного подарка очередной пустоголовый «старший сын» из хорошей семьи.
Этот подвиг ее из «девы угрюмой и бесполезной» превратил вскорости в Звезду Сцены. Некрасивой, строго говоря, девице, посвящают свои смерти испанские матадоры, парижские эстеты забывают о полусвете, модные художники рисуют портреты, композиторы пишут песни, нью-йоркская пресса трубит во все трубы, которые, конечно, оказываются жалкими свистульками в сравнение с журналистскими трубами Сан-Франциско. Все в нее влюблены и сулят новые дары, она же не влюблена ни в кого, поскольку не может влюбиться в того, кто приползает к ней на коленях. Наконец, ее дедушка, ректор оксфордского колледжа Иуды, в свое время отрекшийся, как положено ректору Иуды, от своей внучки-полукровки (мамой Зулейки была циркачка), приглашает ее порадовать его дряхлые кости личным визитом.
В Оксфорде Зулейка встречает Величайшего Сноба Планеты, а, возможно, и Вселенной — герцога Дорсетского. Герцог Дорсетский неоригинально влюбляется в Зулейку но умудряется изобразить равнодушие. Таким образом Зулейка впервые узнает таинства любви, которые, естественно, оказываются недолговечными, потому что на следующий же день герцог на первой же личной аудиенции раскрывает свои банальные карты. Дальше все завертелось: коротко говоря, «они все утонули». Даже сухопутный крошка Ноукс и тот… Впрочем, читайте про крошку Ноукса сами.
Процитирую:
«Не будь человек стадным животным, цивилизация, возможно, уже достигла бы определенных успехов. Изолируйте человека, и он не дурак. Но выпустите его на волю среди товарищей, и он пропал — еще одна капля в море безумия. Студент, повстречавший мисс Добсон в пустыне Сахара, влюбился бы; но ни один из тысячи не захотел бы умереть потому, что мисс Добсон его не полюбила. Случай герцога был особый. Просто влюбиться было для него неистовой перипетией, производящей неистовую встряску; а гордость его была такова, что безответная любовь толкнула неизбежно к очарованию смертью. Остальные, вполне заурядные юноши, стали жертвой не столько Зулейки, сколько поданного герцогом примера и друг друга».
В конце книги, избавив Оксфорд от студентов и позволив оксфордским донам наконец заниматься чистой наукой без глупых отвлечений, Зулейка, поскучав немного и даже немного взгрустнув, отравляется в Кембридж. Легко было бы предположить, что там сюжет повторился бы. Но мне лично кажется, что в Кембридже история случилась бы совсем другая. В конфликте лириков с физиками, старого с новым, побеждают всегда последние. По правде сказать, лириков вообще нет, есть только люди, не понимающие, например, что сочинение стихов — такая же точная наука, как и геометрия. А старое, учил Эзра Паунд, полезно только для тех, кто в нем видит новое.
Viva Zuleika! Viva her awesome Cambridge friends & pals, maybe even her lovers.
Р.S. B процессе работы над переводом обнаружилось, кто именно зажег искру, из которой разгорелось пламя мировой революции. Это был некий Мишлен, встретивший в комментариях к какой-то книге упоминание исторических теорий неаполитанского чудака Джамбатиста Вико. Теории показались ему столь интересными, что он немедленно выучил итальянский, а потом пошло–поехало — как в стихотворении Йетса «Леда и Лебедь». Об этом см. To the Finland Station Эдмунда Уилсона.
Николай Никифоров