Зулейка Добсон, или Оксфордская история любви - [3]
Глава II
Солнце светило через эркерное окно «лучшей» спальни в доме ректора, озаряя тусклые пастельные портреты на стене, канифасовые занавески, старый яркий ситец. Оно вторглось в чемоданы — все с инициалами 3. Д., — зиявшие на разной стадии раскопок. Двери громадного гардероба, подобно дверям храма Януса во времена войны, стояли величественно распахнутые; солнце этим воспользовалось, дабы заглянуть в глубины красного дерева. Ковер же, выцветший от незапамятных солнечных посещений, был от солнца почти совсем скрыт под слоями тонкого белья, шелка, парчи, атласа, шифона, муслина. Овеществленные модистками, все цвета радуги были тут. Стулья завалены не знаю какими саше, футлярами с веерами и перчатками. Не счесть свертков в серебристой бумаге и розовых лентах. Высилась пирамида картонок. Стоял лес обувных колодок. Посреди этой роскоши туда и сюда шелестела очевидно французская горничная с пригоршнями украшений. Проворная и безошибочная, подобно ласточке ныряла она и сновала. Ничего она не упускала, ни на миг не останавливалась. Она казалась прирожденным распаковщиком: спорым и уверенным, но при том бережным. Едва взявшись за ношу, горничная уже укладывала ее на полку или упаковывала в ящик комода. Размыслить, схватить, определить — для нее все это было единым действием. Она была из тех, кто рожден, чтобы обратить хаос в космос.
До такой степени, что прежде чем часы в церкви пробили громко новый час, все чемоданы были отосланы пустые. На ковре не осталось ни клочка серебристой бумаги. С каминной доски фотографии Зулейки собственнически обозревали комнату. Ее игольник, ощетинившийся новыми булавками, лежал на накрытом канифасом туалетном столике в окружении множества стеклянных флаконов — каждый увенчан куполом тусклого золота, на котором алмазами и кианитами инкрустировано было «3. Д.» На другом столике стояла малахитовая шкатулка с такими же инициалами. Еще на одном столике находилась библиотека Зулейки. Обе книги были переплетены в тусклое золото. На корешке одной бериллами было инкрустировано «БРЭДШО»; на корешке другой — «АЛФАВИТНЫЙ СПРАВОЧНИК»,[5] аметистами, бериллами, хризопразами и гранатами. Огромное зеркало-псише стояло, готовое отразить Зулейку. Оно ее всюду сопровождало в сделанном специально огромном футляре. Рама его была из слоновой кости, из слоновой кости и стройные ребристые колонны, между которыми оно поворачивалось. Золотыми были два канделябра над зеркалом, и в каждом торчали четыре длинные свечи.
Дверь отворилась, ректор гостеприимно попрощался с внучкой и оставил ее на пороге.
Зулейка подошла к зеркалу.
— Раздень меня, Мелизанда, — сказала она. Как и все, кто часто вечерами появляется перед публикой, она привыкла отдыхать до заката.
Мелизанда вскоре удалилась. Ее госпожа в белом пеньюаре, обвязанном голубым кушаком, возлежала в ситцевом кресле и смотрела через эркерное окно. Внизу находился красивый двор: грубые серые стены, галереи, травяной ковер. Ей до него было так же мало дела, как до шумного внутреннего двора одного из отелей, где она проводила жизнь. Она видела его, но не замечала. Казалось, она думает о себе, или о чем-то желанном, или о ком-то незнакомом. Во взгляде ее сквозили томление и скука. Но они, пожалуй, были быстротечны — всего лишь тени, что проскальзывают иногда между блестящим зеркалом и блеском, в нем отраженным.
Строго говоря, Зулейка не была красивой. Глаза ее были чуть больше, ресницы чуть длиннее, чем следовало. Шевелюру ее составляли беззаконные кудри, бившиеся на темном нагорье за господство над не лишенным достоинств лбом. В остальном ее черты были избавлены от оригинальности. Они, казалось, составляли мешанину известных образцов. Мадам маркиза де Сент-Уэн[6] поделилась правильным наклоном носа. Рот был лишь копией лука Купидона, с пурпурной лакировкой и тетивой мельчайшего жемчуга. Не нашлось бы ни яблони, ни персикового сада, ни финикийского розового куста, у которых щеки мисс Добсон не похитили бы долю своего великолепия. Шея из искусственного мрамора. Руки и ноги крайне средних пропорций. Талия практически отсутствовала.
Но хотя грек обругал бы ее за асимметричность, а елизаветинец обозвал бы цыганкой, ныне, в разгар эдвардианской эпохи, мисс Добсон была любимицей обоих полушарий. Ближе к двадцати она сделалась сиротой и гувернанткой. Дедушка отверг ее просьбы о приюте или содержании, отказавшись брать на себя заботу о последствии брака, некогда им запрещенного и до сих пор не прощенного. Недавно, однако, движимый любопытством или раскаянием, он попросил ее провести с ним неделю на закате его дней. У нее выдался «перерыв» между двумя ангажементами — в нью-йоркском театре «Виктория» и в парижском «Фоли-Бержер»,[7] — и она, никогда в Оксфорде не бывав, простила старые обиды в том смысле, что потрафила прихоти старика и приехала.
Она, возможно, до сих пор не забыла его безразличие к ранним ее невзгодам, о которых ей и теперь страшно было вспоминать. К жизни гувернантки она, действительно, очень плохо была приспособлена. Разве ждала она, что нужда загонит ее в едва покинутую классную комнату, чтобы там изображать поборницу спряжений, сложений и глобусов, так ею и не освоенных? Ненавидевшая свою работу, ничему у юных своих учеников не научившаяся, гонимая из дома в дом, она была девой угрюмой и бесполезной. Красивое личико тем более осложняло ее обстоятельства. Если в доме был взрослый сын, он в нее обязательно влюблялся, и она позволяла ему через обеденный стол бросать смелые взгляды. Предложение руки она отвергала — не потому, что «знала свое место», а потому, что не любила. После этого, будь она даже хорошей учительницей, ее присутствие делалось нестерпимым. Скоро ее перевязанный ремнями чемодан, отягощенный новой связкой билье-ду
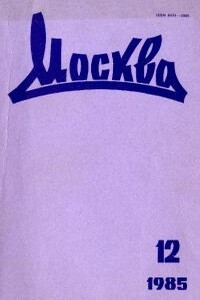
Эта книга вышла в Америке сразу после войны, когда автора уже не было в живых. Он был вторым пилотом слетающей крепости», затем летчиком-истребителем и погиб в ноябре 1944 года в воздушном бою над Ганновером, над Германией. Погиб в 23 года.Повесть его построена на документальной основе. Это мужественный монолог о себе, о боевых друзьях, о яростной и справедливой борьбе с фашистской Германией, борьбе, в которой СССР и США были союзниками по антигитлеровской коалиции.
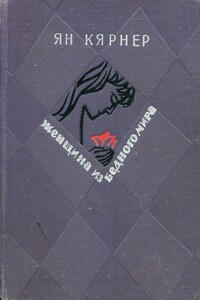
"...В то время я была наивной и легкомысленной, какой в свои девятнадцать лет может быть неискушенная в жизни девушка. Работала конторщицей и жила с нелюбимым мужем. Вернее, я тогда еще не знала, что не люблю его, верила, что люблю, и страдала. Страдания эти были больше воображаемыми, чем реальными, и сейчас, спустя много лет, вспоминая о них, я не могу удержаться от улыбки. Но что поделаешь, воображение для молодой девушки многое значит, так что я не могу обойти его, должна примириться с ним, как с неизбежным злом. Поэтому в своем повествовании я не избежала доли сентиментальности, которая сейчас мне самой не по душе.
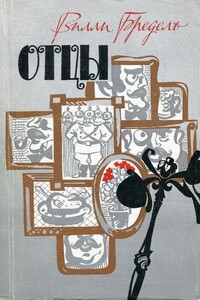
Роман известного немецкого писателя Вилли Бределя (1901—1964) «Отцы» возвращает читателя к истории Германии второй половины XIX — начала XX вв. и дает наглядную картину жизни и быта германского пролетариата, рассказывает о его надеждах, иллюзиях, разочарованиях.

Роман видного современного югославского писателя Дервиша Сушича «Я, Данила» (1960) построен в форме монолога главного героя Данилы Лисичича, в прошлом боевого партизанского командира, а ныне председателя сельского кооператива. Рассказчик с юмором, а подчас и с горечью повествует о перипетиях своей жизни, вызванных несоответствием его партизанской хватки законам мирной жизни. Действие романа развертывается на широком фоне югославской действительности 40—50-х годов.
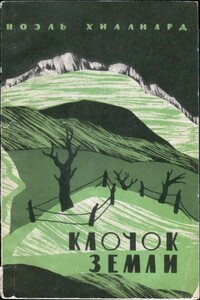
Без аннотации Ноэль Хиллиард — ярый противник всякой расовой дискриминации (сам он женат на маорийке), часто обращается к маорийской теме в своих произведениях — как в романе «Маорийская девушка», так и в рассказах, часть которых вошла в настоящий сборник.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.