Избранное - [39]
Шрифт
Интервал
Что помню я? Огромную квартиру
на берегу Фонтанки — три окна
зеркальные, Юсуповский дворец
(не главный, что на Мойке,
а другой), стоявший в этих окнах,
няню Таню…
А я был болен бронхиальной астмой.
Кто знает, что это такое? Только мы —
астматики. Она есть смерть внутри,
отсутствие дыхания. Вот так-то!
О, как она меня жалела, как
металась. Начинался приступ,
я задыхался, кашлял и сипел,
слюна вожжой бежала на подушку…
Сидела няня, не смыкая глаз,
и ночь, и две, и три,
и сколько надо, меняла мне
горчичники, носила горшки
и смоченные полотенца.
Раскуривала трубку с астматолом,
и плакала, и что-то говорила.
Молилась на иконку Николая
из Мир Ликийских — чудотворец он.
………………………………
И вот она лежит внизу, в могиле, —
а я стою на краешке земли.
Что ж, няня Таня?
Няня, ДО СВИДАНЬЯ. УВИДИМСЯ.
Я все тебе скажу.
Что ты была права, что ты меня
всему для этой жизни обучила:
во-первых, долгой памяти,
а во-вторых,
терпению и русскому беспутству,
что для еврея явно высший балл.
Поскольку Розанов давно заметил,
как наши крови — молоко с водой —
неразделимо могут совмещаться…
…………………………………
Лет десять будет крест стоять
как раз у самой кромки кладбища,
последний в своем ряду.
Потом уеду я в Москву и на Камчатку,
в Узбекистан, Прибалтику, Одессу.
Когда вернусь, то не найду креста.
……………………………………
Но все это потом. А в этот день
стоит сентябрьский перегар
и пахнет пылью и яблоками,
краской от оград кладбищенских.
И нам пора. У всех свои дела,
и незачем устраивать поминок.
На электричке мы спешим назад
из Вырицы в имперскую столицу,
где двести лет российская корона
пугала мир, где ныне областной
провинциальный город.
Мне пора на лекции, а прочим на работу.
ТАК, ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ. Спи пока.
Луи Армстронг, архангел чернокожий,
не заиграл побудку над землею
американской, русской и еврейской…
1975
МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ
Иосифу Бродскому
Вступление I
СТАРЫЙ КИНЕМАТОГРАФ
Старый кинематограф —
новый иллюзион.
Сколько теней загробных
мне повидать резон!
Это вот — Хамфри Богарт[19]
пал головой в салат.
Только не надо трогать,
ибо в салате яд!
Вот голубая Бергман[20]
черный наводит ствол.
Господи, не отвергнем
женственный произвол.
Жречествуй, парабеллум,
царствуй вовеки — кольт!
Грянь-ка, по оробелым,
выстрел в мильоны вольт!
Ты же хватай, счастливчик,
праведное добро.
Кто там снимает лифчик?
То — Мерилин Монро![21]
В старом и тесном зале,
глядя куда-то вбок,
это вы мне сказали:
«Смерть или кошелек!»
Здравствуй, моя отчизна,
темный вонючий зал,
я на тебе оттисну
то, что недосказал,
то, что не стоит слова —
слава, измена, боль.
Снова в луче лиловом
выкрикну я пароль:
«Знаю на черно-белом
свете единый рай!»
Что ж, поднимай парабеллум,
милочка, и стреляй!
Вступление II
ПЯТИДЕСЯТЫЕ
Сороковые,
роковые,
совсем не эти, а другие,
война окончена в России,
а мы еще ребята злые.
Шпана по Невскому гуляет,
коммерческий, где «Елисеев»,
и столько разных ходит мимо
злодеев или лицедеев.
В глубокой лондонке буклевой,
в пальто двубортном нараспашку,
с такой ухмылкой чепуховой —
они всегда готовы пряжку,
кастет и финку бросить в дело
на Мальцевском и Ситном рынке.
Еще война не прогорела,
распалась на две половинки.
Одна закончена в Берлине,
где Жуков доконал Адольфа,
другая тлеет и поныне
и будет много,
много дольше.
Дойдет и до пятидесятых,
запрячется,
что вор в законе,
и в этих клифтах полосатых
«ТТ» на взводе при патроне.
Они в пивных играют «Мурку»,
пластинки крутит им Утесов,
ползет помада по окурку
их темных дам светловолосых.
Перегидрольные блондинки
сидят в китайском креп-жоржете,
им нету ни одной заминки
на том или на этом свете.
Вот в ресторане на вокзале
кромешный крик, летит посуда,
бандитка с ясными глазами
бежит,
бежит,
бежит оттуда
и прячет в сумку полевую
трофейный верный парабеллум,
ее, такую боевую,
не схватишь черную на белом.
И это все со мной случилось
и лишь потом во мне очнулось,
в какой-то бурый дым склубилось
и сорок лет спустя вернулось.
Я вижу лестницу витую
на Витебском и Царскосельском.
Не по тебе одной тоскую —
еще живу в том свете резком.
Вступление III
ПОЛЧАСА ДО ТЕМНОТЫ
Полчаса до темноты —
вот теперь давай на «ты»!
Щекоти намокшим мехом
в полусвете полудня.
Я пошарю по прорехам,
не отталкивай меня.
Здесь под балкой потолочной
темный царствует ремонт,
мимо нас туман проточный
проскользнул за Геллеспонт.
Если будем вечно живы,
то отправимся в Стамбул.
Там оливы
и проливы —
сокол их перепорхнул.
В голубой весенней юбке
ты закажешь коньяка,
все туманные поступки
проясняются слегка.
И тогда под минаретом
мы припомним этот день,
ежели тебе при этом
будет вспоминать не лень
той разрухи капитальной
коммунальный коридор,
поцелуй,
почти опальный,
и укромный разговор.
Как с тобой легко и жутко,
что ж ты смотришь сверху вниз?
Поднеси поближе шубку,
расстегнись
и отвернись.
ТРИНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ
Я долго прожил за «Аттракционом»
в Четвертом Барыковском переулке
в Замоскворечье возле Пятой ТЭЦ.
Что значит долго? Просто девять лет.
И вот пошли отчаянные слухи,
что дом наш непременно забирают
под неопределенную контору.
Никто не верил. Вышло — точно так!
Я переехал и забыл про это.
Еще от автора Евгений Борисович Рейн
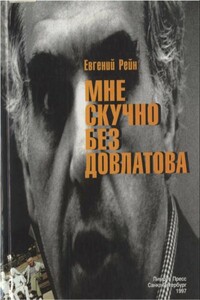
Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.