История сексуальности 4. Признания плоти - [133]
Поскольку Адам и Ева устыдились, но не побоялись признаться, их грех не был непростительным. Их грех повлек за собой грехопадение людей, а их стыд, который показывает, утаивая, стал в некотором роде первой формой грядущего искупления. В противоположность змею и Каину, принадлежащим к племени проклятых, Адам и Ева, как и Давид, обретают свое место в генеалогическом древе спасения. Залогом тому является их признание. В экзегезе Златоуста очень четко прослеживается, как определяется эта, бесспорно, фундаментальная для христианства идея: попирая волю Бога или его закон, грех в то же самое время заставляет грешника взять на себя обязательство истины. Это обязательство имеет два аспекта: нужно признать себя автором совершенного поступка и признать, что этот поступок – зло. Именно от этого обязательства истины уклонился Каин, сказав «Не знаю» и тем самым прибавив к преступлению крови против своего брата преступление истины против Бога. Именно этому обязательству последовали Адам, Ева, Давид, искупив повиновением принципу правдоизречения неповиновение закону. Христианство заложило в основу своей экономии греха долг правдоизречения. Экзегезы святого Иоанна Златоуста, приводимые здесь лишь в качестве примера и первого указания на это, ясно показывают, что этот долг истины играет в процедуре прощения не просто инструментальную роль средства, позволяющего получить прощение или смягчить наказание. Как только преступление совершено, сразу возникает долг истины по отношению к Богу. Этот долг столь существенен, столь фундаментален, что, уплатив его, можно рассчитывать на отпущение любого греха, каким бы тяжким он ни был; уклоняясь же от его уплаты, мы не только сохраняем на себе совершенный грех, но и совершаем другой, неизбежно более тяжкий, ибо он обращен непосредственно против Бога. Знаменательно, что святой Амвросий, комментируя тот же фрагмент из Книги Бытия (4:9–15), утверждает, подобно Златоусту, что Бог наказал Каина не столько за то, что он убил своего брата, сколько за то, что он не сказал правду. «Non tam majori crimine parricidii quam sacrilegii»>[[1037]>]. Там, где Златоуст говорил о бесстыдстве, Амвросий говорит о святотатстве. И дело тут не в усилении строгости. У Златоуста anaideia обозначала нарушение правила «стыдливости» по отношению к Богу, установленного грехом. Именно это нарушение Амвросий обозначает латинским юридическим термином sacrilegium. Немногим позже святой Августин придаст непризнанию Каина другое, на первый взгляд существенно отличающееся, значение. Он тоже подчеркивает, что вопрос, поставленный Богом, есть не более чем испытание, предложенное Каину, чтобы дать ему возможность спастись, – ведь Бог и так знал, что совершил Каин. Но Каин, ответив «Я не знаю», высказал в некотором роде первый вариант отказа евреев услышать Спасителя. Он отверг призыв признать истину своего преступления; и евреи тоже отвергнут призыв признать истину Евангелия. Каин лгал, говоря, что не знает того, о чем вопиет голос крови и напоминает Бог. Евреи лгут, отрицая то, о чем вопиет кровь Христова и возвещает Священное Писание. «Fallax ignoratio, falsa negatio»[1038]. Но, перенося таким образом урок Каина из области признания своих грехов в область веры в Евангелие, святой Августин не отступает от сути того, что было сказано {Златоустом} в «Беседах о покаянии» или {Амвросием} в трактате «De paradiso». Он четко и ясно показывает связь, которую Златоуст и Амвросий в рассмотренных нами текстах лишь подразумевали, – глубокое родство между обязательством истины в отношении грехов и обязательством истины в отношении Откровения. Веридикция и вера, правдоизречение о себе и вера в Слово неразделимы или должны быть неразделимы. Долг истины в двух формах – как вера и признание – занимает центральное положение в христианстве. Этим двум формам соответствуют два традиционных смысла слова «исповедание». А в общем смысле «исповедание» есть признание долга истины.
По понятным причинам я оставлю в стороне проблему долга истины, понимаемого в христианстве как вера, и буду рассматривать этот долг лишь в смысле признания, со всеми следствиями признания в экономии греха и спасения. Однако связь между этими двумя аспектами нужно постоянно держать в уме, не забывая подчеркивать, что «правдоизречение» о грехе занимает в христианстве, бесспорно, более важное место и во всяком случае играет в нем более сложную роль, чем в большинстве религий, требующих признания в грехах (а таких религий немало). Если взять хотя бы религии древних Греции и Рима, то в сравнении с ними христианство наложило на своих верующих куда более властное с точки зрения формы и куда более требовательное с точки зрения содержания обязательство «говорить правду» о себе.
Исходя из этих новых правил «веридикции» и следует разбираться в том, как христианство относится к плоти.
Приложение 4
Однако главная проблема не в этом. Она – в необходимости мыслить возможность половой связи до грехопадения вне категории тлена {corruption}. В самом деле, эта категория, какою она использовалась большинством предшественников Августина, устанавливала между смертностью людей и половым соитием сущностную общность и в то же время обоюдную причинность: половая связь, будучи нечистой, являлась одной из форм тлена, точно так же как смерть – разрушение тела. Поэтому половой акт можно было помыслить как одно из следствий этого тлена, который поразил людей, когда они были наказаны смертностью. И обратно, можно было полагать, что, внося нечистоту в тела, половой акт нарушает их нетленность и обрекает разрушению. Фундаментальный сдвиг, предпринятый Августином, состоит в том, что он отказался от этой общей категории тлена, разделив, с одной стороны, смерть и смертность, а с другой, половое соитие и тленное состояние тела.
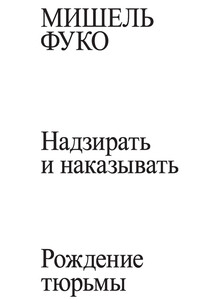
Более 250 лет назад на Гревской площади в Париже был четвертован Робер-Франсуа Дамьен, покушавшийся на жизнь короля Людовика XV. С описания его чудовищной казни начинается «Надзирать и наказывать» – одна из самых революционных книг по современной теории общества. Кровавый спектакль казни позволяет Фуко продемонстрировать различия между индивидуальным насилием и насилием государства и показать, как с течением времени главным объектом государственного контроля становится не тело, а душа преступника. Эволюция способов надзора и наказания постепенно превращает грубое государственное насилие в сложнейший механизм тотальной биовласти, окутывающий современного человека в его повседневной жизни и формирующий общество тотального контроля.

Об автореФранцузский философ Мишель Фуко (1926–1984) и через 10 лет после смерти остается одним из наиболее читаемых, изучаемых и обсуждаемых на Западе. Став в 70-е годы одной из наиболее влиятельных фигур в среде французских интеллектуалов и идейным вдохновителем целого поколения философов и исследователей в самых различных областях, Фуко и сегодня является тем, кто «учит мыслить».Чем обусловлено это исключительное положение Фуко и особый интерес к нему? Прежде всего самим способом своего философствования: принципиально недогматическим, никогда не дающим ответов, часто – провоцирующим, всегда так заостряющий или переформулирующий проблему, что открывается возможность нового взгляда на нее, нового поворота мысли.
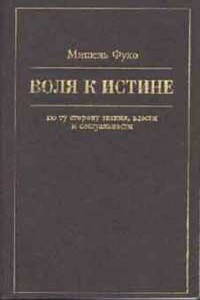
Сборник работ выдающегося современного французского философа Мишеля Фуко (1926 — 1984), одного из наиболее ярких, оригинальных и влиятельных мыслителей послевоенной Европы, творчество которого во многом определяло интеллектуальную атмосферу последних десятилетий.В сборник вошел первый том и Введение ко второму тому незавершенной многотомной Истории сексуальности, а также другие программные работы Фуко разных лет, начиная со вступительной речи в Коллеж де Франс и кончая беседой, состоявшейся за несколько месяцев до смерти философа.

Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог «Алкивиад» (Алкивиад I) Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную «культуру себя» I—11 вв. н. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся пол знаком древнего императива «заботы о себе». Дальний прицел такой установки полная «генеалогия» новоевропейского субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко «критической онтологии нас самих». Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, санкционированным той или иной культурой, чем учреждается техниками господина (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем вопрос нашего нынешнего положения — это не проблема освобождения, но практика свободы..
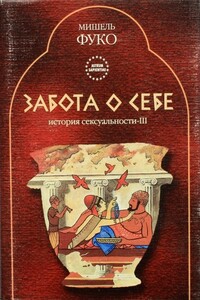
"История сексуальности" Мишеля Фуко (1926—1984), крупнейшего французского философа, культуролога и историка науки, — цикл исследований, посвященных генеалогии этики и анализу различного рода "техник себя" в древности, в Средние века и в Новое время, а также вопросу об основах христианской точки зраения на проблемы личности, пола и сексуальности. В "Заботе о себе" (1984) — третьем томе цикла — автор описывает эволюцию сексуальной морали и модификации разнообразных практик, с помощью которых инцивидуум конституирует себя как такового (медицинские режимы, супружеские узы, гетеро- и гомосексуальные отношения и т.д.), рассматривая сочинения греческих и римских авторов (философов, риторов, медиков, литераторов, снотолкователей и проч.) первых веков нашей эры, в т.
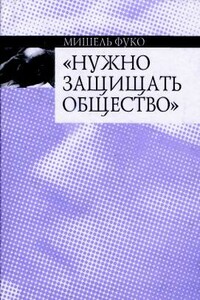
Книга — публикация лекций Мишеля Фуко — знакомит читателя с интересными размышлениями ученого о природе власти в обществе. Фуко рассматривает соотношение власти и войны, анализируя формирование в Англии и Франции XVII–XVIII вв. особого типа историко-политического дискурса, согласно которому рождению государства предшествует реальная (а не идеальная, как у Гоббса) война. Автор резко противопоставляет историко-политический и философско-юридический дискурсы. Уже в аннотируемой книге он выражает сомнение в том, что характерное для войны бинарное отношение может служить матрицей власти, так как власть имеет многообразный характер, пронизывая вес отношения в обществе.http://fb2.traumlibrary.net.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.