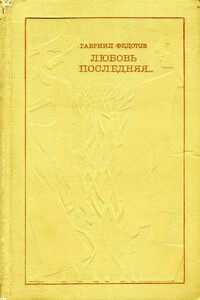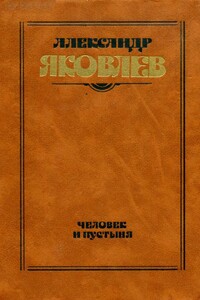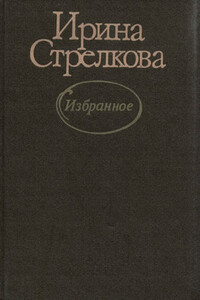Я ответил.
— Неужели вы ничего не знаете? — удивилась она. — Ехевед у меня не живет. Ведь она вышла замуж. Он статный, красивый, вероятно, года на два-три старше ее, совсем еще молодой и уже военный инженер, занимает высокий пост. Отец его — академик, оставил им прекрасную квартиру на улице Лассаля, около филармонии. На днях я встретила молодых. Ехевед не узнать, вся сияет от счастья.
Чего греха таить, мне было больно, очень больно оттого, что я ее потерял навсегда. Даже изредка видеть ее не смогу. Но в это же время чувство умиротворения, какой-то неведомой радости наполняло мне сердце — она счастлива, ей хорошо. А разве это не главное для любящего человека?
«…Я вас любил так искренно, так нежно, как дан вам бог любимой быть другим». Да, я искренне желал ей большого счастья.
Вскоре я окончил консерваторию. Мне предложили остаться в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. Но я твердо решил уехать. И уехать как можно дальше. В Читу.
Первое время там было совсем нелегко. Незнакомый город, незнакомые люди. И быт свой я не очень-то умею устраивать. Словом, все было непросто, а главное — я тосковал по Ленинграду, по Ехевед.
Сразу же выписал «Ленинградскую правду», газету, которая всегда лежала у нее на столе, следил за всеми новостями города, где прошла моя юность. Постепенно я втянулся в свою новую жизнь. Вел курс по классу виолончели в музыкальной школе, часто выступал с концертами. Со временем мне дали небольшую комнату. Жил я одиноко. Встречались интересные девушки, и красивые, и умные, и способные, но ни одна из них не была такой, как Ехевед.
С кем бы из женщин я ни знакомился, невольно сравнивал их с Ехевед. И та, даже далекая, равнодушная ко мне, заслоняла, превосходила их…
Все свои чувства я и теперь отдавал виолончели, своим ученикам, юным музыкантам. Их успехи приносили мне большую радость.
Все чаще я участвовал в концертах. Выезжал с артистической бригадой на новостройки, выступал перед строителями гигантского Магнитогорского металлургического комбината, Уралмаша, Новокузнецкого завода. Играл в заводских цехах, в колхозных клубах, на открытых вагонных платформах, на палубе траулера, в общежитиях золотоискателей, в стойбищах оленеводов… Я видел свою страну во всей красе ее могучего возрождения, знакомился с удивительными людьми, которым все было по плечу. Мог ли я раньше представить себе, что в далекой-далекой Якутии оленеводы будут за сотни километров ехать из своих стойбищ послушать игру на виолончели, с восторгом воспринимая новую для них музыку. Надо ли говорить, какую огромную ответственность я чувствовал, как старательно готовил каждое выступление.
Однажды я совершенно случайно познакомился с очень милой девушкой, фармацевтом из местной аптеки, которая чем-то напоминала мне Ехевед. Это меня пленило, мы стали часто встречаться. Вскоре она переехала ко мне. Это была тихая, славная женщина, внимательная и преданная, но к музыке она была не то что равнодушна, а просто ее не понимала. Бывает же такая — врожденная, что ли, — глухота к музыке, поэзии. Не было в ней жадности к знаниям, остроты ума Ехевед. Ее мир ограничивался нашей комнатой, аптекой, заботами обо мне. Ничто больше ее не интересовало. И вытащить ее из этой скорлупы, из домика-улитки было невозможно. Сходство с Ехевед было лишь внешним.
Я всячески старался подавить в себе разочарование, прилагал все усилия, чтобы она ничего не заметила, — старался быть заботливым, предупредительным. Если б она от меня ушла, я был бы счастлив, хотя она ни в чем не была передо мной виновата. Оставил бы ей нашу новую квартиру и все наши приобретения, все, кроме виолончели. Но самому уйти было невозможно. Невозможно причинить боль беспомощной, одинокой женщине, да она просто этого не заслуживала. Росла сиротой — родителей расстреляли колчаковцы, тяжело болела. И после этого детей уже рожать не могла. Как же можно нанести ей еще один удар…
Казалось, что я уже готов смириться со своей судьбой. И вдруг — это было в начале тысяча девятьсот тридцать девятого года — меня пригласили в турне. Я с радостью его принял. Ведь концерты предстояли в Минске, Ленинграде, Одессе, Киеве, где я еще ни разу не выступал, в городах, которые славятся свой высокой музыкальной культурой. К тому же с Минском и Ленинградом у меня были связаны такие дорогие воспоминания.
Это был настоящий праздник. Концерты проходили при переполненных залах и, как отмечала пресса, с Успехом.
Последний день моего пребывания в Минске был свободным — поезд на Ленинград уходил вечером, и я не мог отказать себе в удовольствии съездить в пограничное местечко, которое находилось всего в нескольких часах езды, где когда-то так прекрасно провел лето. Порой мне казалось, что все это привиделось, что это лишь моя фантазия и нет вообще такого местечка.
Утро выдалось пасмурное, пахло дождем, но разве погода могла быть помехой.
Молодой шофер домчал меня на «эмке» до знакомых мест. Машину я попросил остановить в самом начале главной улицы, где когда-то собиралась молодежь, оглашая окрестность звонкими задорными песнями. Хотелось побродить одному, побыть наедине.