Искренность после коммунизма. Культурная история - [61]
Мои анализы ни в коем случае не призывают отвергнуть ранее предложенные плодотворные исследования русского постмодернизма. Я не пытаюсь доказать, что Дмитрий Пригов был на самом деле более искренен, чем считается в литературе о нем. И я не предполагаю, что деконструкция и игра не важны для понимания искренности Пригова и его коллег. Наоборот, их творчество пропитано демифологизирующей, деконструирующей логикой. Из моих наблюдений следует, однако, что в историях, которые мы рассказываем о постмодернизме, понятие искренности заслуживает большего внимания. Оно не случайный объект деконструктивистского остроумия и не художественный прием, который авторы-постмодернисты просто разоблачают; заботы об искренности лежат в самой основе этих историй. Ученые справедливо различают в (русском) постмодернизме опыты релятивизации и игры; но ведущие постмодернисты одновременно настаивали и на других аффектных проблемах — и важность этих проблем для постмодернизма недостаточно учитывается теориями деконструкции, игры и релятивизма. Я говорю о проблемах искреннего самовыражения и «терапевтического» потенциала, который это противоречивое понятие играет в преодолении травматического прошлого.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «Я ЛИЧНО ДВАЖДЫ ПРОСЛЕЗИЛСЯ»
ИСКРЕННОСТЬ И ЖИЗНЬ В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОМ МИРЕ
Искренность как средство справиться с постсоветской травмой — эта целительная функция продолжала действовать вплоть до недавних пор. Так, например, в феврале 2010 года арт-критик Виктор Мизиано отозвался о творчестве Владимира Дубосарского и Александра Виноградова как о «Новой Искренности», выступающей в роли «второй „оттепели“»: она «явно представляет собой не что иное, как попытку открыть хотя бы какие-то ценности» перед лицом советской истории[530].
В то же время к концу XX века понятие искренности стало появляться в совсем других — и при этом в менее исторически нагруженных — контекстах. Данная глава открывается обзором новых направлений в посткоммунистических интерпретациях искренности, что предваряет переход к одной особенно важной риторической тенденции, в которой искренность увязывается с размышлениями о постсоветской социально-экономической жизни. Анализируя деятельность все более растущей группы художников, писателей, режиссеров и музыкантов, сознательно ориентирующихся на «искреннее» творчество, я уделю особое внимание одной в равной степени спорной и известной литературной фигуре: писателю Владимиру Сорокину. На рубеже веков, а также в начале и середине 2000‐х годов его призывы отказаться от деконструктивистских установок вызвали оживленные критические дебаты, в которых ведущее место занимали вопросы, так или иначе связанные с искренностью. Вместо того чтобы служить инструментом, помогающим справиться с прошлым, понятие искренности здесь активно использовалось для осмысления настоящего — и для описания социально-экономических проблем в посткоммунистическом мире в особенности.
1990‐Е И 2000‐Е ГОДЫ: ПОСТРОЕНИЕ КАНОНА НОВОЙ ИСКРЕННОСТИ
Во «Введении» и в первой главе этой книги я показала, как в начале 1990‐х годов постепенно разворачивалось глобальное осмысление постпостмодернизма. За прошедшее с тех пор время трактовки «новой», «поздней» или «постпостмодернистской» искренности распространялись во многих странах и охватывали все новые и новые творческие сферы. Помимо тех областей, которые я затронула в предыдущей главе, — литературы, музыки, анимации, пластических искусств, кино, журналистики, — в их число вошли телевидение, комиксы, социальные медиа, а также промышленный дизайн и индустрия моды[531]. Показательной для огромной вариативности явлений, к которым с течением времени стала применяться риторика новой искренности, была статья о «гикской „новой искренности“», помещенная в 2010 году в журнале Wired[532]. Ее автор — журналистка Анджела Уотеркаттер — одновременно представила популярный американский сериал «Хор» («Glee»), певицу Леди Гагу и президента Барака Обаму как символов постиронической искренности[533].
Не менее разнообразными оказывались социальные контексты, в которых начиная с 1990‐х годов в разных регионах мира возникали различные понимания «новой искренности». Возродившаяся искренность первоначально выступала как альтернатива постмодернистской культуре, но со временем ее адепты стали представлять ее также как ответ на конкретные политические сдвиги, селебрити-культуру, консюмеризм, финансовый кризис, медиатизацию и дигитализацию.
В России в 1990‐х и 2000‐х годах мне встречались упоминания о возрожденной искренности, распространявшиеся на особенно разнообразный спектр социальных и художественных практик. Произведения искусства, литературные тексты, фильмы, театральные пьесы, классическая и поп-музыка, модные бутики, блоги, телепрограммы[534], даже мультперсонаж «Масяня» неоднократно причислялись к числу типичных примеров «новой» или «постпосткоммунистической» искренности[535].
Точку зрения критиков на эту возрожденную «междисциплинарную» искренность иллюстрирует эссе Дмитрия Бавильского «Об искренности в искусстве». «Мои самые сильные эстетические впечатления последнего времени, — писал он в 2005 году, — так или иначе связаны с искренностью. <…> Так что впору говорить о „новом сентиментализме“. Тем более что именно так пытаются охарактеризовать то, что делает, ну, например, Евгений Гришковец. <…> Сначала у Гришковца были берущие за душу моноспектакли. Потом пьесы, которые ставили другие. Потом подошла очередь пластинок, теперь вот книг. И все, что Гришковец делает — он делает очень искренне. <…> Затем новая пластинка Земфиры. <…> Ее пластинки — не „театр песни“, но дневник (оттого и веришь), зарифмованное и пропетое ЖЖ <…> Упомянув Земфиру, невозможно пройти и мимо Ренаты Литвиновой. <…> …еще один матерый человечище современной поп-сцены. <…> Демонстративная искусственность образа, в котором, тем не менее, прочитываешь некую непосредственность: да, я не дива, но я буду такой. <…> Так выстраивается ряд под условным названием „За искренность в искусстве“»

«История феодальных государств домогольской Индии и, в частности, Делийского султаната не исследовалась специально в советской востоковедной науке. Настоящая работа не претендует на исследование всех аспектов истории Делийского султаната XIII–XIV вв. В ней лишь делается попытка систематизации и анализа данных доступных… источников, проливающих свет на некоторые общие вопросы экономической, социальной и политической истории султаната, в частности на развитие форм собственности, положения крестьянства…» — из предисловия к книге.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На основе многочисленных первоисточников исследованы общественно-политические, социально-экономические и культурные отношения горного края Армении — Сюника в эпоху развитого феодализма. Показана освободительная борьба закавказских народов в период нашествий турок-сельджуков, монголов и других восточных завоевателей. Введены в научный оборот новые письменные источники, в частности, лапидарные надписи, обнаруженные автором при раскопках усыпальницы сюникских правителей — монастыря Ваанаванк. Предназначена для историков-медиевистов, а также для широкого круга читателей.
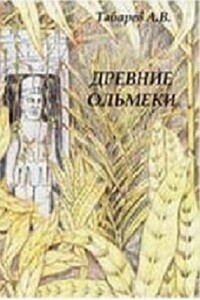
В книге рассказывается об истории открытия и исследованиях одной из самых древних и загадочных культур доколумбовой Мезоамерики — ольмекской культуры. Дается характеристика наиболее крупных ольмекских центров (Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Трес-Сапотес), рассматриваются проблемы интерпретации ольмекского искусства и религиозной системы. Автор — Табарев Андрей Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Основная сфера интересов — культуры каменного века тихоокеанского бассейна и доколумбовой Америки;.

Грацианский Николай Павлович. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века. Выпуск 1. М.; Л., 1942. стр. 7—19.
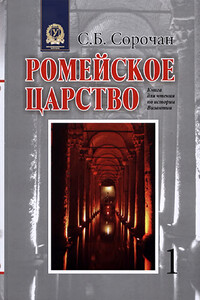
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.
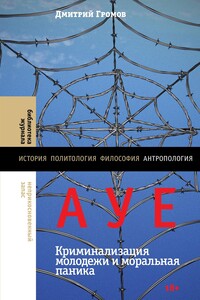
В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.