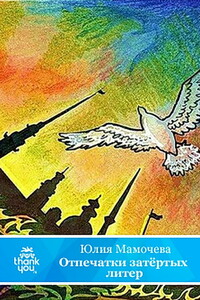Инсектариум - [14]
За пару секунд ДО
В заключение
Акватрель
Проза
(путевое и непутёвое)
— Я люблю картины Айвазовского. Нет, я люблю Айвазовского.
— Друг, отчего ты влюблен в море?
— Между им и мною вовсе ничего нет. Море мне совершенно чуждо. Но Айвазовского я решительно боготворю.
— Белиберда.
Учусь в институте. Училась. Не учусь. Учиться = не учиться, только без не. Без беса. Без бездны. Но нельзя, совсем нельзя, если внутри твоей головы не перекатываются волны бескрайнего полновселенского мыслехранилища; если сами мысли твои не шныряют блёсткими рыбками в пучине космокеана твоего. Я думаю: жаль, что из таких космосов, как из кокосов, редко выжимают довольно белое, добольно никчемушное, сладенькое молоко, оставляя самую суть; самую соль. Соль, которою полон кокосмокеан, но которую ценить не принято, в которую верить — моветон; такая попадет на язык — сплюнут и поморщатся, как если бы ею подло разродился фантик «рафаэлло». Чистая морская соль под корочкой, в которую одет кокос. Космос. (А космос — это всего лишь кокос, лишившийся «ко» во имя «моса».)
— Друг, отчего ты все-таки любишь море?
— Между им и мною решительно нет ничего общего! Я проживу отрезок — оно прямую. Я — точка; оно — мир.
— Белиберда. Ты же в детстве видел в большой дедовой книжке, как по волнам, соскочивши из плена пальмовой верхотуры, плывут косяки кокосов.
— Мой дед был большим ученым. Он любил свою меня и свою ботанику. Он часто уходил в море и однажды не вернулся; я тогда еще не родилась.
— Теперь его море — мир изнутри твоей головы, человек.
— Боже мой!
— Твой. А ты — его. Моря. Того, которое — космос, зажатый в черепе Господа твоего.
— Я люблю Айвазовского, потому что он рисовал глаза Бога. Если море спрятано внутри черепа, то оно неминуемо станет просвечивать сквозь глазничные дырочки.
Станет. Стянет. (Стянет саван будничности, конечно. И прольётся.) Стонет. (Конечно, стонет будничность — когда стянется и упадет расстёгнутым одеяньем, а вечное хлынет во все сторонушки, снося ко всем чертям черту, как дамбу. И тогда море без дна станет; везде. И будет всё — бездна.)
— Господи, тогда ты действительно будешь?
— Излишне будить бдящего.
— Я совсем запуталась.
— Друг, эти путы ТЫ выковал себе. Выйди. Сбрось. Разлейся. Я есть. Я — здесь.
Иешуа говорил, что все люди — добрые. Добрый человек, мимо тихо голодной девочки проходя с неведомооткудошным пирожным, говорит: «Посмотрите на берег, обязательно посмотрите на берег!»
Он шёл от кормы до самого носа, по тёплому, полночно безлюдному, застеленному уютным ковриком коридору. Он шёл в свою каюту, увлекая на тоненьком, как мой волос, блюдечке неведомооткудошный вечерний самокомплимент; шел целенаправленно, деловито и скоро — однако, заметив странную худую девочку, посоветовал ей выйти. Девочка поймала брошенное его предложение и, шатаясь на каблуках в дурацком и неуместном платье до пола, — бессловесно доковыляла до выходной двери; бессовестно одарила ее той силой, с которою сама притягивалась к земным недрам; вывалилась на темную теплоходову палубу.
Ночь, милая, холодная, густо июньская ночь дохнула на меня многозвёздным ураганом: то Волга ретиво гудела и отплёвывалась своею плотью под дерзкими винтами теплохода. Инородная четырёхпалубная рака, гудящая роем в добрую тысячу любителей оправдать безделие, должно быть, очень пугает великую Волгу. Букашки жующие, спящие, играющие в карты и на нервах, думают, что покорили твои воды; они гордятся мелочной гордостью всадника, что вот как гордо едут на тебе верхом. Я — конь; я взбрыкиваю и плююсь пеной, а теперь вскидываю копыта — и человечишка хрипит, целуя землю изломанными коленами. Ты тоже плюешься пеной, пеной твоих гудящих легких; сейчас поднимешься на дыбы — и букашки начнут проклинать тебя, смешиваясь с твоей голубою кровью. Волга, спасибо, что ты такая сильная; но скучно тебе, вольной, скучно от этой скученности самозваных поработителей. Ты не потопишь нас — не из покорности к приручившему, но от милостивого снисхождения к порочному и непрочному. Милость твоя суть малость между оседлавшимся и оседланным, которая заковывает в стремена седаковы ноги. Порочные, бедные порочные пленники нерушимых казематов гедонизма! Не мы ли связаны накрепко канатами гордыни, Гордиевыми гордынными канатищами? Злом, как узлом. Не мы ли? Не мыли нас Волгины водушки, не полоскали дочиста. Не поласкала помыслы наши мать-река по-матерински.

Это третья книга эксцентричного и самобытного поэта-вундеркинда Юлии Мамочевой. В свои девятнадцать «девочка из Питера», покорившая Москву, является автором не только многочисленных стихов и поэм, но и переводов поэтических произведений классиков мировой литературы, выполненных с четырех европейских языков: английского, немецкого, испанского и португальского.В настоящий момент Юлия Мамочева учится на втором курсе факультета международной журналистики МГИМО, поступив в один из самых выдающихся вузов страны во многом благодаря званию призера программы «Умницы и умники».

Пятый сборник поэта и переводчика, члена Союза писателей России, лауреата Бунинской премии Юлии Мамочевой, в который вошли стихотворения, написанные с сентября 2013 года по апрель 2014-го. Книга издана к двадцатилетию автора на деньги, собранные читателями, при финансовой поддержке музыканта, лидера группы «Сурганова и Оркестр» Светланы Яковлевны Сургановой.