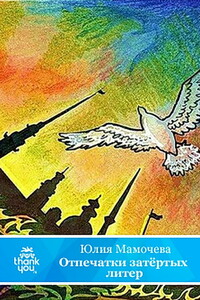Инсектариум - [16]
«Не посягай на карту, которую…» — для большинства тщеславных человекоподобных жид-простите-костей этой картой преткновения оказалась карта нашей необъятной родины, не покрытая в конечном счете ни одним европейским (другие, к слову, открыто и не претендовали) тузом. Даже такими бесспорно козырными, аки Наполеон и небезызвестный император Третьего Рейха. Русская зима, советские просторы…: да остров святой Елены — ничтожно малая кровь по сравнению с прощальным выстрелом твоего младшего коллеги и немецкого преемника, о мой тщеславный малорослый галл. Россия — есть хитросплетеённая ризома, в которой увязнет всякий меч, принесенный на землю её со злонамерением; она непобедима своей патриархально грозною харизмой, своей необъятной несокрушимой силушкой. Пожалуйста, не посягай на карту, которую заведомо не сможешь покрыть, — ты, будущий завоеватель третьего тысячелетия!.. Не нарушай заповеди, отринутой высокими амбицией — Посягнувшими и закономерно Проигравшими. Ты жидкость. Ты — человек. Тебе никогда не покорить России, как не оседлать, не объездить тщедушному теплоходу русогривой Волги. Самокритичность в расчёте средств даже при масштабе абсурдной цели — вот бесценная благодетель.
Однако ж, знаешь ли, и переусердствовать в расчеётливости для вершителя «бигдилов» — дил решительно гиблый. Судьба сводила меня с одним из переусердствовавших: его сердце было непокаянно, но по-каевски холодно — а по морю, просвечивавшему сквозь глазницы, беспомощно бултыхались стайки мертвых ледников. Мороз омертвил его свободу, приковал мысли к тусклому смыслу, аки локтями к батарее. Оледенелый, закаменевший мытарь беспорывного разума… А ведь он тоже некогда был водой. Тяжело быть водой… Тяжело не скатиться в подводье жид-костности — жидовской косности и косного жидовства (в современном, скверном понимании этого слова, не имеющем ни малейшего отношения к почтенным иудеям, которые мне соплеменно дороги и мною весьма любимы). Тяжело не рассеяться паром неправедным.
Тяжело быть жидкостью. Но, в конце концов, речь не о тебе, вовсе не о тебе, о начало жизни.
Речь о звуке. О музыке, которая по сути своей есть волны, но легче они текучей, знающей меру субстанции. Вода расползается лишь до границ шири своего объема; звук ползет раздольнее, и глубже, и выше — иглами втыкает в самое сердце свою звонкую мягкую плоть, смешивается с самою кровью, пьянит и обращает не в бегство — но в безумие, заставляя прирастать к месту омертвелою оболочкой памятника его собственному величию. Музыка суть газ, вспархивающий в высь небытия, вспарывающий легкие светом, всасываемый ушными раковинами, ноздрями, порами — не до поры, но до скончания пира её. Музыка, отдельная беспредельная единица красоты, — это концентрат вечности, втеснеённый в стеклянную пробирку секунды, минуты, мгновения собственной жизни. Рождеённая вне сущего самим сущим, она перерождается внутри тебя, именно тебя! обретая очертания, которые зовутся воспоминаниями прошлого, но вмещают мощь грядущего зыбким «Теперь».
— Что видишь, когда звучит музыка, человек?
— Я вижу свет. Изумрудно-рыжую лесную зарю. Я вижу губы вечности, источающие пение птиц.
— Что слышишь ты, когда она объемлет тебя неиссушимым океаном со всех сторон?
— Слышу фимиам внутри грудной клетки, в котором покинувший пальму свою кокос моего сердца плещется золотом, плывя на простор. Ему хочется домой. Но не вернуться, уже не подняться. Ветвь сломана под самое горло.
— Что чувствуешь ты, задыхаясь в звуке, щемяще-блаженном? Что предстает перед тобою?
— Красота. Лик невыносимой, вечной, обжигающей душу совершенностью своею красоты.
Для каждого она своя. Я слышу древнесловия славянских молебнов; запах свежескошенной травы. Мамино лицо. Слышу тебя, Господи.
Чебоксары. Небоксары. Небо кисло-серое, погода шепчет. Шепчет тихо, настойчиво; встречает сюрреалиастическим ливнем, чувашским чудом, превращающим город в полноводное псевдоленинградское месиво. Готовится к встрече загодя — уже вчера пускается во все тяжкие, ещё с минувшего вечера обрушивает на древнюю свою столицу нежданные щедроты тюркского гостеприимства. Дождь могуч; серебряные волнопады его походят на ожерелья здешних женщин. Я вырываюсь в самую толщу этой сиятельной, серой материи; накрестными объятиями бразильского Христа встречает меня прибрежная чувашская Матерь — кажется, на тёмной голове её самое небо возлежит влажным и туманным платом. Волжская вода оберегает и на берегу: «здравствуй, изболотная дочка!; причастись святой водицы, блудное петроградово дитя!» Причащаюсь. Очищаюсь до иссушенных косточек.
Среди чертыхающихся и хмуролицых банковских служащих, учителей, докторов; среди заспанных туристов, чередою порождаемых неизмерным теплоходовым чревом, — меж подвернувшими брючки, задирающими долгие, как долг, подолы юбок, среди проклинающих небесные душеизлияния — мальчик догоняет черную собаку. Собака большая и вся покрыта тяжёлой косматой шерстью. Мальчишка маленький и мокрый; его жёлтая безрукавая футболка доходит почти что до самых колен, бьёт по ногам, мешает бежать. За псиной по мокрому асфальту резво ползёт, извиваясь, как змея, длинный и скользкий поводок; через него потомки древних чувашских колдунов вперемежку с иноземцами подневольно скачут в сумасбродной и нервной пляске. У бегущего ребенка немного раскосые глаза, лицо его напоминает лица героев национального эпоса, которые поражали тёмных духов одною громогласною молитвой. Ошалелая беглянка чёрною тенью шныряет по многолюдной улице, вырывается на проезжую часть. Мальчик несётся следом, путаясь в мокрых своих ногах; кидается бесстрашно, летит почти — в надутом, как парус, солнечном одеянии. Автомобили — серые, вишнёвые, тускло-белые — свистят и дудят вспухающими железными жабрами подводных чудищ. «Стой, стой, дура!» — он падает на псину, укрывает её тощею продрогшею плотью, обрушивает на землю, захлёбывается в мореподобной лужевой хляби. Чёрное вымокшее лохматое тело бьётся, бесится, месит лапами грязную воду и затихает. Подбегаю. Хватаюсь за петельку поводка; протягиваю мальчишке руку. Усталый и дрожащий, хриплым по-старчески голосом он в собачью спину выкрикивает: «Мерзкая, проклятая гадина! Ненавижу! Ненавижу тебя!»

Это третья книга эксцентричного и самобытного поэта-вундеркинда Юлии Мамочевой. В свои девятнадцать «девочка из Питера», покорившая Москву, является автором не только многочисленных стихов и поэм, но и переводов поэтических произведений классиков мировой литературы, выполненных с четырех европейских языков: английского, немецкого, испанского и португальского.В настоящий момент Юлия Мамочева учится на втором курсе факультета международной журналистики МГИМО, поступив в один из самых выдающихся вузов страны во многом благодаря званию призера программы «Умницы и умники».

Пятый сборник поэта и переводчика, члена Союза писателей России, лауреата Бунинской премии Юлии Мамочевой, в который вошли стихотворения, написанные с сентября 2013 года по апрель 2014-го. Книга издана к двадцатилетию автора на деньги, собранные читателями, при финансовой поддержке музыканта, лидера группы «Сурганова и Оркестр» Светланы Яковлевны Сургановой.