Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков - [164]
Характеристики, восхищенно-ироничные и гиперболически экспрессивные – например, в следующем фрагменте – также могут быть плодотворны в плане сопоставлений с булгаковским материалом:
Был торжественный случай в театре. Раут, празднование. <…>
Качая плечами с ледяными неглядящими лицами, прошла шеренга роковых женщин; парчевые кресла скользнули им навстречу, и они опустились в кресла с египетским движением спин, держа прямую позу разбуженной змеи. <…> Одна знаменитая дама вступила в зал, облеченная красным шелком знамен (вероятно, имеется в виду М. Ф. Андреева. – Е. Т.).
Актеры все как один озирались с конским аллюром в праздничной надменности. <…> Сам Станиславский пронес над черным половодьем толпы свою голову укротителя зверинца, подобную белой хоругви. <…> (33).
Повесть Бромлей о театре, написанная десятью годами раньше, чем неоконченный роман Булгакова, сочетает реалистический мимесис с экспрессионистскими приемами усиления выразительности и в этом плане находится на той же линии, что и работа Булгакова. В описании эстрадных номеров на этом театральном празднике особенно сгущаются мотивы, возможно прототипические для булгаковских театральных описаний: можно предположить некую интертекстуальную связь между следующей сценой и эстрадными номерами в «Мастере и Маргарите», притом что «маг» здесь изображен пародийный:
Потом <…> вынули эстраду, и на ней, торча фалдами фрака и выгнув правую ногу, подобно коню, роющему землю, воздвигнулся «Джон Личардсон настоящий». Он вздыбил черный ус под наморщенным носом и потер руки. Глаз, яркий и круглый, вращался угрожающе и вдохновенно.
«Проездом чересь – то есть скрозь этот город», – сказал Личардсон и резко смолк, пережидая смех.
– Я, профессор черной и белой магии, Джон Личардсон настоящий – даю гастроль! Почтеннейшая публика и интеллигенты!
С вопросительным восторгом черным кустом торчали брови, торчали детские верящие глаза.
Не от райской ли чистоты сердца родится этот блаженный вздор? (34–35).
Бромлей описала здесь реальный эстрадный номер актера I Студии МХАТ (также киноактера, впоследствии актера и преподавателя МХАТа) Владимира Александровича Попова (1889–1968), поставленный в 1922 году. Так что, даже если исключить интертекстуальную связь, уместно считать, что мотив «явления черного и белого мага» на московской сцене у Булгакова имел отношение к номеру Попова.
На сходство Булгакова и Бромлей можно взглянуть и шире. У Бромлей налицо повесть о послереволюционном примирении и прощении России высшими силами (ср. «Белая гвардия») – это «Из записок последнего бога». Есть и своя биологическая фантастика о революции (ср. «Собачье сердце») – это «Потомок Гаргантюа», где речь идет о кентавре, затесавшемся в современность и участвующем в мятеже. Есть сочинение о художнике и святоше – это «Приключения благочестивой девицы Нанетты Румпельфельд». Есть и мистическо-фарсовая мениппея – это пьеса «Мария в аду», где Сатана вместе с Богом вынужден поддержать основу бытия – различие добра и зла, которое отменяет торжествующая пошлячка-нэпманша Мария. При полном отсутствии внешнего сходства с романом Булгакова о Сатане в пьесе Бромлей поражает глубинное сходство как концепции – неотменимость основного морального закона доказывается силами зла, – так и самого жанра, переплетающего теологию с эксцентрикой и дающего едкую сатиру на нэповские культурные и духовные реалии.
Два мэтра: Алексей Толстой в прозе Набокова
Писатель Б. Покинув осенью 1921-го эмигрантский Париж, где Бунин, приехавший в 1920 году, успел вытеснить его отовсюду[389], Алексей Толстой переехал в Берлин, где в 1922–1923 годах оставался ведущей фигурой литературной жизни[390] – по выражению Пильняка, «первейшим». Никогда еще он не занимал такого центрального положения. По всем признакам это расцвет. Одна за другой выходят его книги, и написанные в Париже, и новые, берлинские. В своем Литературном приложении к газете «Накануне» он собирает молодую литературу России и эмиграции – контрастно противопоставив свою линию стареющей группе авторов «Современных записок»[391]. А. Толстой – литературный авторитет для молодежи. Им в Москве восхищается и подражает ему Булгаков. Так продолжается до конца 1922 года, когда литературный Берлин от него отшатнулся, – и еще некоторое время по инерции.
Десять лет спустя, в 1930 году, молодой Набоков опишет его в романе «Подвиг» – это писатель Бубнов, образ которого введен грубейшей, но эффективной аллюзией: «Писатель Бубнов, – всегда с удовольствием отмечавший, сколь много выдающихся литературных имен двадцатого века начинается на букву „б“». Это намек на сменовеховство Толстого, переход на сторону советской власти, которое расценивалось эмиграцией прежде всего как продиктованное корыстью. Из рассыпанных по тексту черт складывается знакомое лицо:
…плотный, тридцатилетний, уже лысый мужчина с огромным лбом, глубокими глазницами и квадратным подбородком. Он курил трубку, – сильно вбирая щеки при каждой затяжке, – носил старый черный галстук бантиком и считал Мартына франтом и европейцем. Мартына же пленяла его напористая круглая речь и вполне заслуженная писательская слава. <…> У Бубнова бывали писатели, журналисты, прыщеватые молодые поэты, – все это были люди, по мнению Бубнова, среднего таланта, и он праведно царил среди них, выслушивал, прикрыв ладонью глаза, очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге (с непременным присутствием Медного Всадника) и затем говорил, тиская бритый подбородок: «Да, хорошо»; и повторял, уставившись бледно-карими, немного собачьими глазами в одну точку: «Хорошо», с менее убедительным оттенком; и, снова переменив направление взгляда, говорил: «Неплохо»; а затем: «Только, знаете, слишком у вас Петербург портативный»; и, постепенно снижая суждение, доходил до того, что глухо, со вздохом бормотал: «Все это не то, все это не нужно», и удрученно мотал головой, и вдруг, с блеском, с восторгом, разрешался стихом из Пушкина, – и когда однажды молодой поэт, обидевшись, возразил: «То Пушкин, а это я», – Бубнов подумал и сказал: «А все-таки у вас хуже». Случалось, впрочем, что чья-нибудь вещь была действительно хороша, и Бубнов – особенно если вещь была написана прозой – делался необыкновенно мрачным и несколько дней пребывал не в духах
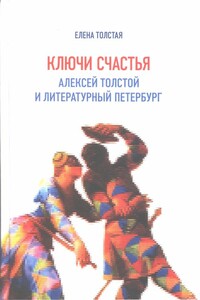
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц.

Анализируются сведения о месте и времени работы братьев Стругацких над своими произведениями, делается попытка выявить определяющий географический фактор в творческом тандеме.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии, произнесенной 7 декабря 1999 года в Стокгольме, немецкий писатель Гюнтер Грасс размышляет о послевоенном времени и возможности в нём литературы, о своих литературных корнях, о человечности и о противоречивости человеческого бытия…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.