Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков - [163]
И мы склонны предположить, что теперь уже маститый Толстой внимательно следит за блестящим дебютантом и, готовя советское издание «Хождения по мукам» в 1925 году, поверяет свой роман «Белой гвардией».
В ранних, журнальной парижской (1920, 1921) и книжной берлинской (1922), версиях романа герои Толстого – уравновешенный, положительный душевный здоровяк, оптимист и экстраверт инженер Телегин и нервный, озлобленный интроверт, юноша-офицер Рощин несколько походили на прекраснодушного жизнелюбца Пьера и желчного пессимиста князя Андрея из «Войны и мира». Еще более уподоблялся Рощин князю Андрею в эпизоде, где он излагал свои планы для военного министра и вообще пытался спасти Россию – подобно тому, как Андрей в Вене требует, чтоб его послали из штаба на фронт, ибо он хочет спасти русскую армию, совершив подвиг, а вернувшись с войны, пишет план военной реформы для министра. В советском издании 1925 года Толстой состарил Рощина, дал ему седые виски и повысил в чине, от поручика до капитана. Юношеское отчаяние Рощина от гибели России он переориентировал на разочарованность. Новый Рощин очень похож на булгаковского Мышлаевского: хронологически такое воздействие вполне допустимо: ведь первые чтения «Белой гвардии» начались в начале 1924 года.
Христос и профессор черной и белой магии. Многие произведения советских авторов двадцатых годов не были опубликованы. Но даже и опубликованные произведения, релевантные для Булгакова, могли остаться незамеченными, литературно неотрефлектированными – например, театральная повесть Надежды Бромлей «Птичье королевство». В ней изображен гениальный современный драматург Эйссен – «умный человек с бледным носом». Он пишет для героини пьесу, о которой та говорит:
Пишите так: меня осудил весь мир, а я права, меня сжигают на костре, а я пою… <…>
Одним словом, <…> что-нибудь вроде Христа, распятия, только Христос, несмотря ни на что, веселый, без этих стонов и без уксуса, острит на кресте и потом поет замечательно под занавес… (24)[388].
Судя по этому фрагменту 1929 года, Бромлей вполне сознательно использует портретные черты Булгакова и его знаменитый нос, – вплетая сюда же тему Христа из романа, первый вариант которого уже писался в конце 1920-х годов; наверняка что-то об этом мхатовцам было известно.
Но и само наименование «мастер» во всем богатстве его исторических и мистических привязок, в сочетании с человеческой слабостью и недостойностью, могло прийти к Булгакову, кроме всего прочего, из московских разговоров весны 1922 года об опальной пьесе Бромлей «Архангел Михаил». Ее героя зовут Мастер Пьер, играл его Михаил Чехов. В постановку этой пьесы в первой Студии МХАТ (впоследствии МХАТ-2) вмешалась трагическая смерть Евгения Вахтангова, но спектакль все-таки как-то дотянули, и прошла череда генеральных репетиций. Их было восемь, и на них перебывала вся Москва, но все закончилось посещением театрального начальства и полным запретом пьесы. И немудрено – в ней осуждался имморализм, насаждаемый насильно властью, и утверждались вечные нравственные основы миропорядка: герой, посягнувший на них, терял свой художественный дар и погибал.
Похоже, что прецедент «Птичьего королевства» Бромлей следует учитывать и для булгаковского «Театрального романа»: например, культ отчетливо опознаваемого МХАТа, который, на фоне общего морального распада, выглядит театром небожителей:
Есть Новый театр на Театральной; там живут прекрасные люди и туда никого не принимают. Чистый театр, величавый, там гнездятся орлы; там люди друг другу священны. Это огненный дом. Там нет ни лакеев, ни предателей, ни продажных, ни разовых женщин, ни красных занавесок в закулисных коридорах, похожих на коридоры домов свиданий, ни проезжих молодцов из актерской сволочи, растерявших талант и пристойность в притонах, похожих на театр импровизаций, в театрах, похожих на притон <…> они там торжественно дышат воздухом нашего времени и называют его горным. <…> Мы ходим плакать на их спектакли (26).
Однако, как и Булгакову, никакой пиетет не мешает Бромлей тут же переключиться в саркастический регистр:
…они носят головы на своих плечах с величайшей осторожностью. Они работают неслыханное количество часов в сутки, и единственное, что их переутомляет, – это их вежливость. Ибо они вежливы даже в трамвае, даже на премьерах чужих театров. Они отглажены до последней складки, их носовые платки ослепительны. Постоянное усилие никого не презирать и со всеми здороваться влияет несколько на их цвет лица. Но они никогда не умирают несвоевременно. Один из них, говорят, даже играл ответственную роль после своей смерти и умер официально только под занавес третьего спектакля, когда успех был обеспечен и подготовлен дублер (27).
Пассаж о мемориальном кабинете легендарного основателя у Бромлей сопоставим с музейной серией фотографий Аристарха Платоновича в «Театральном романе»:
Есть и у нас святилище и древность. Там желтые в крапинках обои, голые лампочки висят на шнурах перед двумя неряшливыми окнами; на ламбрекенах пожелтевшие облака гардин старого образца, кроваво-желтый крашеный пол облуплен под столом древнего ореха. Сыплется лавр древних венков: кабинет первого директора, беспримерной славы благородного отца, умершего в году 1873 (30).
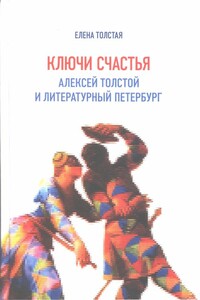
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц.

Статья напечатана 18 июня 1998 года в газете «Днепровская правда» на украинском языке. В ней размышлениями о поэзии Любови Овсянниковой делится Виктор Федорович Корж, поэт. Он много лет был старшим редактором художественной литературы издательства «Промінь», где за 25 лет работы отредактировал более 200 книг. Затем заведовал кафедрой украинской литературы в нашем родном университете. В последнее время был доцентом Днепропетровского национального университета на кафедре литературы.Награжден почётной грамотой Президиума Верховного Совета УРСР и орденом Трудового Красного Знамени, почетным знаком отличия «За достижения в развитии культуры и искусств»… Лауреат премий им.

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.

Анализируются сведения о месте и времени работы братьев Стругацких над своими произведениями, делается попытка выявить определяющий географический фактор в творческом тандеме.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.